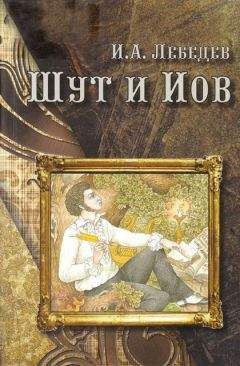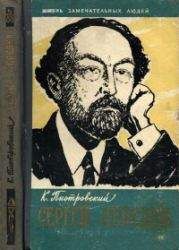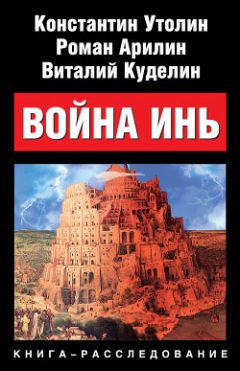Константин Лебедев - Дни испытаний
— Вы что? В гости ко мне приходили? — гремел майор. — Где ваша выправка? Что это за поза? — Он некоторое время хрипло отчитывал Бориса, но постепенно успокаивался и, наконец, стих.
— Разрешите идти? — спросил Борис.
— Идите.
Ростовцев, козырнув, щелкнул каблуками на повороте и, чеканя шаг, вышел из комнаты. Затворив за собой дверь, он приложил руку к лицу. Лоб оказался влажным от испарины. Он покачал головой и вдруг тихо рассмеялся.
— Попало? — сказал он себе вслух. — И поделом. Не будь мокрой курицей! Не раскисай в другой раз!
По дороге он обдумывал назначение. Конечно, оно не пришлось ему по душе. Перспектива сидеть на глухой железнодорожной станции была не из приятных. Ему хотелось увидеть собственными глазами врага, помериться с ним силами, победить его. И вместо этого ему придется мирно разгружать вагоны, складывать грузы и переправлять раненых. Хороша романтика! И что он скажет друзьям, когда встретится с ними? Поведает, сколько ящиков прошло через его руки? Или расскажет, как он спокойно почивал ночами в то время, как другие где–то совсем рядом сражались за родную землю? Или будет передавать боевые истории, услышанные от других?
«Материально обеспечить успех! — вспомнил он слова майора. — Хорошо ему говорить. Вот бы посадить его на мое место!» — Борис представил себе крепкую фигуру Крестова, морщинистое лицо с обвисшими щеками, зеленые новенькие погоны. Он намеренно отыскивал в нем отталкивающие черты и раздувал в себе неприязнь к нему. И в этот момент перед его глазами всплыл орден Ленина, прикрепленный к гимнастерке майора, на который во время разговора он как–то не обратил внимания. И сразу Борису стало стыдно за то, что в душе его зародилась неприязнь к этому заслуженному человеку. Что сделал он, Борис, чем возвысился настолько, чтобы судить опытного, знающего свое дело, старого ветерана, который, может быть, посвятил армии не один десяток лет и заслуги которого так высоко оценены? В конце концов, раз этот человек находит, что он, Борис, лучше всего подойдет для хозяйственной работы, значит, видимо, так и надо. Значит, его место действительно там. Кроме того, ведь не все же время он будет находиться именно в этой должности. Присмотрится, проявит себя, освоится с армейской жизнью, и может быть, тот же майор даст ему более опасное и более почетное задание.
Рассуждая так, Борис несколько успокоился. Но все–таки некоторое раздражение было в его голосе, когда он, вернувшись домой, рассказывал Ковалеву о своем назначении.
Ковалев выслушал Бориса и неожиданно развеселился.
— Ха–ха–ха! — смеялся он. — Поздравляю! Поздравляю и приветствую! Кладовщик! Взвесьте два фунта колбасы и полкило сахару! Ну и должность!.. Заведующий кооперативом… Ха–ха!
Борис спокойно переждал, когда у Ковалева кончится приступ неуместного веселья, и безразличным голосом сказал:
— Рано смеешься, товарищ Ковалев.
— Почему?
— Да забыл я тебе сказать, что младший лейтенант Ковалев назначается мне в помощники. Такие–то дела, товарищ помощник заведующего кооперативом, — нажимая на последнее слово, добавил он и прошел мимо остолбеневшего Ковалева. Опустившись на кровать, он хладнокровно потянулся и заложил руки за голову.
3
Чем дальше к северу уходил эшелон, тем угрюмее становилась природа, расстилавшаяся по обеим сторонам железнодорожного полотна. На смену безбрежным равнинам и густым лесам, освободившимся уже от снега, приходили мелкие кустарники и болота. Кустики, торчавшие то там, то здесь, сиротливо тянулись вверх, слабые и одинокие. Попадавшиеся изредка небольшие лесные участки состояли из низеньких деревьев. Корявые ветви как будто не имели сил подняться высоко и стелились почти у самой земли. Деревья стояли без листвы, темнея тонкими заскорузлыми стволами, едва приподнимаясь над серыми, в изобилии заросшими мхом, островками. Только ели, густые и зеленые, чувствовали себя на этой земле превосходно и выделялись среди остальной растительности своими пышными зелеными телами. Постепенно их становилось все больше и больше. Они то вырастали у самого железнодорожного полотна, закрывая от глаз остальные деревья, то показывались вдали, образуя темные массивы, среди которых порою поднимались голые серые спины сопок.
И все–таки, как ни убога была растительность, как ни пустынна местность, во всем, если присмотреться, таилась какая–то особая красота. Здесь было все сурово и просто. И в этой–то простоте была особая привлекательность. Чувствовалось, что для того, чтобы жить здесь, расти и зеленеть, нужна была особая стойкость, особое упорство, особая жажда жизни. Нужно было взять от почвы все, что она могла дать. Нужно было уловить все те короткие мгновенья, в которые заглядывает сюда солнце. И, наконец, приходилось быть таким гибким и стойким, чтобы бешеные ветры осени не сломали, а лютая зимняя стужа не заморозила. И поэтому здесь не было ничего лишнего, ничего замысловатого. Здесь было самое необходимое, самое важное для того, чтобы выжить.
С каждым километром, остававшимся позади, делалось все холоднее, и однажды утром, выглянув в окно, Ростовцев увидел на земле еще не растаявший снег. Сначала он лежал отдельными островками, прячась в ложбинках и ямках. Но к середине дня уже на всем пространстве был виден его тонкий, но ровный покров, слегка посеревший от солнечных лучей. Весна еще не дошла сюда, она только приближалась.
Ростовцев, смотря на открывавшиеся перед ним панорамы, подумал, что в этом году ему придется пережить две весны. Одну он уже встретил, а другую будет встречать по прибытии на место.
Кругом было безлюдно. Изредка попадались одинокие служебные здания, несколько раз промелькнули мелкие поселения, покинутые жителями. Станции находились далеко друг от друга и были большею частью разрушены бомбежками.
Местами попадались участки лесных пожарищ. Деревья здесь представляли печальное зрелище. Некоторые из них едва держались на подгоревших истонченных основаниях, другие, падая, зацепились за верхушки соседей и, поддерживаемые ими, еще стояли в наклонном положении. Большая же часть их превратилась в головешки и осталась гнить на почерневшей земле.
До сих пор движение эшелона было счастливым. В наиболее опасных местах, куда часто залетали самолеты противника, эшелон не останавливался. Он проходил их ночью, пережидая день где–нибудь в укрытии. Но ночи стали короткими и светлыми, поэтому к такому способу передвижения прибегали редко, лишь в случаях крайней необходимости.
На одном из маленьких полустанков поезд задержался. Проходя мимо одной из теплушек, Ростовцев услышал доносившиеся оттуда звуки баяна. Он остановился и прислушался. Кто–то мастерски исполнял собственную фантазию на русские темы. Казалось, что баян плакал надрывно и тягуче. Но вот грустная мелодия, тоскливо пробивавшаяся через стенку, вдруг сменилась залихватским перебором и перешла в быструю, захватывающую плясовую. Баянист ускорял темп, и скоро звуки так и заплясали, обгоняя друг друга, торопясь, разбегаясь в стороны. Слушатели отбивали такт ногами. Кто–то гикнул, и топот усилился. Ростовцев понял: это пошла настоящая пляска. Постояв некоторое время в нерешительности, он отодвинул тяжелую дверь и влез в теплушку. В тесном пространстве между нарами плясал боец. Плясал с присвистом, гиканьем и дробной чечеткой, сотрясавшей пол вагона. Подошвы четко выбивали дробь, поспевая за быстрым темпом музыки, а зрители хлопали в ладоши и возгласами выражали одобрение, которое разжигало плясуна еще больше. В заключение он пошел вприсядку по тесному кругу, выбрасывая с необыкновенной легкостью ноги, и вдруг, подпрыгнув, как мячик, остановился.
Только теперь все заметили присутствие Ростовцева, и в вагоне стало тихо.
— Ну, что ж вы замолчали? — спросил Борис. — Продолжайте!
— Есть продолжать, товарищ лейтенант! — отозвался из своего угла баянист, растягивая меха.
Борис с интересом взглянул в его сторону. Оказалось, что это был старшина Голубовский, тот самый старшина медслужбы, который должен был оставаться на базе вместе с ним и Ковалевым.
Пока Голубовский играл, Борис всматривался в его лицо. Оно было задумчивым, и задумчивость эта была особенно заметна сейчас, когда он был поглощен игрой. Тонкие темные брови, полураскрытые губы, в уголках которых таилась едва уловимая грустная улыбка, правильный нос с маленькой горбинкой и слегка выдающимися ноздрями, глубокие синие глаза, устремленные в сторону, — все это было красиво.
Борис с искренним удовольствием любовался им. Он жалел только волосы Голубовского, коротко по–солдатски остриженные и торчавшие ежиком. Ему представлялось, что они должны быть длинными, волнистыми, зачесанными назад.