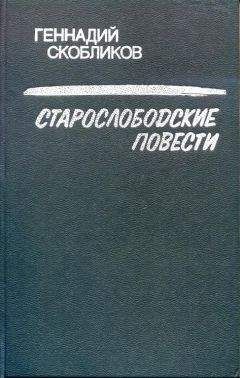Кирилл Шишов - Золотое сечение
Как правило, урок был для нас постыдным раскрытием собственного невежества. Первая пулеметная очередь свежевыученного стихотворения, первые покашливания Феофана в могучий кулак, колыхание его громадного живота и скрип подоконной доски, на которой он обычно восседал, — и обращение к аудитории: «Ну, ваше мнение, коллеги?..» Робкие сорочьи стрекотания девчонок вызывали у него кислую мину. Добросовестные фразы из учебника — окаменелость. Простодушные ляпсусы двоечников — ухмылку и ковыряние в носу. Казалось, он любил все ставить на голову и в этой позе справляться о равновесии, об устойчивости и даже о самочувствии.
«Конечно, вы считаете себя пупом истории, — заявлял он, хотя ничего подобного мы даже не думали, — а поэтому все, что было до вас, в лучшем случае пригодно для котлетного фарша сочинения. Мыслить над прошлым вам неинтересно. Но я спрашиваю вас: почему Державин мог быть великим поэтом и вешать пугачевцев на осинах? Почему Екатерина переписывалась с Вольтером и гноила своих просветителей в равелинах?»
Так с нами никто не разговаривал. Только Феофан мог зайти в уборную, где украдкой курили в рукав «ополченцы», как он называл юношей с пробивающимися усиками, и громко пробасить: «У кого «Беломор» — прошу покинуть зало. Не выношу каторжных…»
Через полгода мы уже досконально знали, что Феофан живет бобылем со старухой матерью, что у него был инфаркт, когда его сын пропал без вести. Мы знали, что у него есть библиотека, которую он вывез из Ленинграда, и что мать его тяжело больна оттого, что прожила подле этой библиотеки все два года в блокаду, не продав ни одной книги. Мы знали даже, что Феофан писал научные статьи, и их даже где-то печатали, и его приглашали в институт, а он живет в квартире железной дороги, где дают уголь и дрова, и окна выходят на юг — и потому не может из-за матери уходить из нашей железнодорожной школы.
Все это выяснили наши девчонки с дотошностью, вначале из-за смутного любопытства, потом — из обиды и, наконец, из вражды. Странно, что ни о ком из учителей мы не знали ничего подобного и даже не интересовались — что это за люди и чем они жили вне школы, у всех у них были семьи и дети, — но Феофан впервые стал для нас общим раздражителем. Мне даже кажется, что именно его парадоксальность и непохожесть сблизила нас с девчонками. Он стал тем антиподом, против которого мы дружно объединились. Он обижал и задевал нас — отличников и второгодников, зубрил и умников. Мы ходили от его уроков как больные: чтение его было уничтожающе-прекрасным, разборы сотканы из такой массы парадоксов и фактов, что мы терялись и даже не пытались заглядывать в учебники… Спасало нас лишь одно: унижая нас, Феофан щедро ставил отметки. Иногда даже лишние… У меня с Феофаном тоже сложились мучительные отношения. Быстро подметив мой восторг перед его обаянием, стремление окунуться в море его парадоксов и образов, он напрочь перестал замечать меня. Я перечитывал Киршу Данилова и протопопа Аввакума, сидел как проклятый над скучнейшими «Сказаниями о казанском походе», зубрил оды Сумарокова и Ломоносова в надежде блеснуть на фоне всеобщего мамаева побоища, коими стали наши уроки, но Феофан избегал спрашивать меня. Перед его приходом я вдохновенно подвывал про себя чудовищные, пещерно-ящерные глаголы восемнадцатого века, перечитывал скрупулезные записи его прошлых импровизаций, где упоминал неведомые дотоле имена какого-нибудь Скопина-Шуйского или Василия Курбского, ради которых я две ночи напролет сидел над отцовской «Историей Древней Руси» Ключевского; но Феофан предпочитал спрашивать зевающих на задних партах хоккеистов или предупредительно смотрящих ему в рот, теребящих оборки передников девчонок. Я же зеленел от распиравших меня страстей, яростно рвался с парты с вытянутой умоляющей рукой. Но все было напрасно: Феофан даже не поворачивал в мою сторону головы.
И все же, когда он, окончив очередное избиение младенцев и небрежно нарисовав отметки в журнале, начинал свой монолог, я каким-то тайным, болезненным чутьем все острее начинал догадываться, что он говорит, обращаясь… именно ко мне. Ибо возникшая передо мной на страницах отцовских книг ломаная крутая, беспощадная история русских гениев — всех этих сумасшедших, посаженных в остроги, убитых на дуэлях, сгноенных по казармам, — история этих людей оживала в устах Феофана физически — с манерой грассирования или шепелявостью, с чахоточной исступленностью и хмельной безнадежностью. Я физически ощущал бездну их гибели и равнодушие окружающих, о которых Феофан говорил, гримасничая и актерствуя, показывая тоже почти в лицах копеечные заботы обывателей, их муравьиные копошения, их животный страх перед небытием.
Сидя в классе, уставшем от попыток понять желчные пассажи учителя, улавливая ухом, как сзади и сбоку азартным свистящим шепотом играют в «морской бой», я ловил себя на мысли, что смотрю на все это как посторонний. Жалкие, обшарпанные парты, порыжелая от времени и мела унылая доска, мутные, с изломами и трещинами, стекла, за которыми пегий затоптанный снег, гулкий вокзал, надсадно скрежещущие на повороте трамваи — все это в отстраненном и бесцельно обнаженном виде вдруг вставало передо мной, и мне мучительно хотелось плакать от сознания всего этого и хотелось бежать куда глаза глядят, бежать ошалело, до изнеможения, до упаду на то единственное место, что было святым и вечным для меня — на могилу погибшего отца… А где она и есть ли она на белом свете?..
VIВ тот год меня впервые охватило чувство хода времени. Физически крепкий, редко болеющий, я никогда не ощущал ущербности или тоски в смене городских сезонов. Любая пора была хороша: скрипящий свежей капустой снег, парная позеленевшая вода, хрустящая резучая трава… Время было создано для упругих, пахнущих по́том мышц, для велосипедных гонок, для лазоревой полированной пленки льда… И вдруг — я ощутил, что живу в маленьком провинциальном городочке, затерянном за Уралом в горловине Сибири. Ощутил, как ничтожно мал и заброшен этот городок от больших стезей истории, и пронзительным, внезапно обидным чувством наполнилось мое юное сердце.
Грустно стало выходить на любимый с детства вокзал, вечно гудящий, пахнувший сложными запахами немытых, намаянных в дороге тел, резкими выдохами мазута и непременной, высыхающей от жары сдобой баранок, кренделей, батонов. Почти со слезами машинально взбирался я по стучащим, как клавиши, деревянным, окованным полосовой сталью ступенькам на старинный железнодорожный мост, откуда еще так недавно с восторгом смотрел на плавный ход вагонов, слушал зычные рожки стрелочников, лязг чугунных буферов… Ныне вокзал казался мне лишь началом дороги в иной, прекрасный и стремительный, мир, — мир ярких сочных красок, высоких помыслов, великих поступков, отчаянных и обреченных на гибель, но именно потому притягательных и прекрасных, что происходят они на виду, в шумном подлинном мире. Мой крохотный деревянно-кирпичный город с облупившимися фасадами, замусоренными улицами и вечной багрово-сизой завесой дыма в небе от окраинных заводов казался мне тупиком. Было несчастьем родиться в нем, жить среди бесцветных серых улиц с крохотными магазинчиками, дощатыми накренившимися заборами, за которыми блаженствовали, распивая на чахлой траве водку, проезжие унылые личности.
Это обостренное чувство жалости к самому себе, возникшее так сильно и самолюбиво, выразилось у меня своеобразно. Продолжая лихорадочно читать, поглощая горы отцовских книг, уносясь воображением то во времена Дантона и Робеспьера, то в эпоху Кромвеля, я стал угрюм, замкнут и груб. Мои домашние казались мне нелепыми, жалкими. Меня изводило, когда я шел за покупками с матерью. Нес ей тяжелые сумки, слонялся за ней по бесчисленным базарам и магазинам, выстаивал нудные очереди, изнемогал от обилия сытых, равнодушных лиц.
Мне были противны эти низкие уродливые мясные ряды, где с храпом рубили мясо багроволицые рубщики в грязных, окровавленных фартуках, а очередь торговалась, брезгливо выбирала распластанные, дурно пахнущие куски, ругалась из-за ляжек или грудинок, скрипела дерматиновыми сумками и набитыми авоськами… Мне было стыдно, когда весной, как обычно, я, щурясь на солнце, вылезал под руководством бабушки на наш низкий, почти до земли, подоконник и мыл грязной тряпкой почернелые от копоти и сажи окна, тер их газетой и видел в стекле свое жалкое, изможденное, добросовестное лицо послушника… Отчаянное противоречие между далеким прекрасным миром, где я мог бы жить, и этим, в мутных подтеках, скрипучим стеклом, изводило меня. И все прохожие, казалось, ехидно подсмеивались над моими потугами, над этой нелепой худой фигурой длиннорукого подростка, распятого на подоконнике.
Школа, ранее однообразная и будничная, теперь стала для меня несносной. Глупыми были и девчонки со своими лошадиными челками, угристыми носами, крахмальными лентами в косицах.