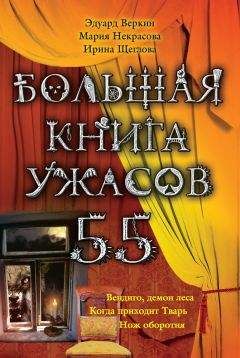Эдуард Шим - Ночь в конце месяца
— Гляди.
— Уже нагляделся. Не верти в носу, потеряешь красу.
Сначала Алька слушала, еще не понимая слов и только ловя голос, и я видел, как она хотела и все не решалась улыбнуться.
А когда я договаривал, она поворачивалась и, наклонясь, медленно шла дальше. Было слышно, как шуршали по снегу ее разношенные валенки. Чтоб они не соскакивали, Алька не шагала, а будто катилась на лыжах, — подскребывала подошвами по дороге.
И вот так, издали, когда она уходила, — мне было ее жалко.
Я ведь любил ее.
2
Наступала весна. Сырой мартовский ветер точил снега; на красной стороне улицы все дружней, будто настраиваясь, бренчала капель. В просветлевшем небе кружились ошалелые вороны, гоняясь друг за дружкой.
Дома сидеть не хотелось.
В одних рубашках мы с Юркой Лыковым играли в чунки. Ставили на дорогу осиновый кругляш и по нему били палкой. Юрка — в мою сторону, я — в его. Чьи удары сильней, тот продвигается вперед, теснит противника дальше и дальше.
Мы начали от околицы, и я загнал Юрку почти на середину деревни. Размахнувшись, неловко пробил по кругляшу. Он метнулся вкось и глухо стукнул по окошку Алькиной избы. Брызнуло светлыми стрелами стекло.
— Беги!! — Юрка, пригнувшись, кинулся прочь.
А я остался. Все равно Алькина мать узнает. Потом будет хуже, лучше уж сразу. Я стоял и ждал, когда она выбежит на улицу.
Но дом будто спал. В разбитом окне ветер шевелил редкую заштопанную занавеску. Осколок упал внутрь, звякнул о половицу.
Никого… Отчего бы это? Нынче воскресенье, и Алькина мать должна быть дома.
Я подождал еще, привстал на завалинку, хотел посмотреть. Позади кто-то часто задышал. Я оглянулся. Это подошла Алька. Запыхавшись, она стояла, зажав под мышкой какой-то узелок. Видно, только что вернулась из Жихарева.
Лицу стало жарко, я отвернулся.
— Зачем ты… — виноватым голосом сказала Алька. — Там же мать… Захворала она, худо ей…
Алька сгребла с подоконника осколки, постояла. Я чувствовал, что она на меня смотрит. Она всегда так смотрит на меня — теплыми, обрадованными глазами. Будто я ей подарил что, а она не знает, как сказать спасибо.
Шаркнули валенки, Алька пошла в дом. Узелок она забыла на завалинке. Я подал его. Пальцы нащупали круглое, твердое — яйца, и мягкую корку — хлеб.
Я вспомнил, что в Жихареве — крепкий, богатый колхоз. Вот, оказывается, зачем бегала туда Алька по воскресеньям.
3
Перед майским праздником она вернулась из Жихарева почти в сумерки: дороги развезло, и в лесу поднялась вода. Алькины валенки размокли, она несла их в руках, ступая по лужам очень белыми, маленькими ногами. И еще она несла большой пучок подснежников.
— Хочешь, подарю?
Она выбрала несколько цветков и протянула мне. Они были едва распустившиеся, искрились под солнцем.
— А остальные кому? Все давай!
— Не. Не дам.
— Давай, давай!
Она устала, озябла, и все вздрагивала и переступала с ноги на ногу. Неровно подстриженная прядка волос упала ей на глаза, словно для того, чтобы прикрыть их горячий, мокрый блеск.
— Дай, — сказал я. — А то отыму.
Алька отодвинулась к забору и втянула
подснежники в обтрепавшийся, засаленный рукав ватника. Я схватил цветы, дернул. Точно снежок хрупнул в ладони, пальцы стали мокрыми. Я сразу и не понял, отчего.
Алька разжала руки. В них были помятые, давленые стебли. Цветков почти не осталось.
Свет задрожал в Алькиных глазах, она сунулась лицом к забору, сгорбилась.
— Я их… не тебе несла… сбирала…
И заплакала.
Я вернулся во двор, глядел на мокрую руку и не мог понять, как же все получилось.
Алька долго ждала за калиткой. Потом ушла.
Забор будто раздвинулся, и очень ясно я увидел, как, оскальзываясь, она идет по размякшей дороге, и следы ее заливает рыжая талая вода.
4
— Бери бидон, ступай за керосином!
— Что ты, мам! Вчера соседская Алька едва из Жихарева пришла… А разве за шесть километров до станции доберешься? Ведь завязну!
— Так что, без керосину сидеть? Иди, тебе говорят!!
С моей матерью не поспоришь. Я взял бидон и с утра пошагал на станцию.
Мне повезло. Едва вышел за околицу, как нагнала полуторка из Жихарева. На повороте я вскочил и потихоньку примостился в кузове.
Распустив по сторонам крылья грязной воды, буксуя и фырча, машина с трудом плыла по дороге. Добирались до станции часа полтора.
Купив керосину, я вернулся на вокзал и опять стал ждать попутной машины. Было мало надежды, что она появится, но ничего, не поделаешь, пешком все равно не дойти.
На вокзале было пусто. Просыхая, дымились доски низенькой платформы. По ней бродили тощие, испачканные мазутом курицы.
Потом дернулась кверху красная рука семафора, загудели рельсы. Паровоз притянул и поставил к вокзалу пестрый состав из пассажирских и товарных вагонов. Пути заволокло паром.
Когда он рассеялся, я увидел, что с поезда почти никто не слез. А по платформе, вдоль вагонов, медленно шла Алька. Откуда она взялась, я не заметил.
Держа в руках пучочки подснежников, она водила глазами по окнам и, словно пересчитывая их, шевелила губами.
С одной из площадок протянулась рука. Алька отдала подснежники, сунула за пазуху свернутые трубочкой деньги.
Чтоб не встретиться, я схватил бидон и, перескакивая через рельсы, выбежал на проселок. Меня словно ударили по лицу.
5
На другой день я сам пошел за подснежниками. Я соберу их много, и, может, сам стану продавать, и принесу деньги Альке… Как же я раньше-то ничего не видел и не понимал!
Но нарвать подснежников мне не удалось.
В ту ночь ударил неожиданный, не по-весеннему жгучий заморозок. Каленая земля стонала под ногой, на реке скрежетал и гулко трещал лед.
В лесу вода тоже замерзла. Дул ветер, но трава и кустарник не шевелились, закостенев от мороза.
Я отыскал подснежники. Они тоже стояли прямо, недвижно, будто отлитые из зеленого стекла. Я протянул руку, и от первого же прикосновения цветок тоненько зазвенел и рассыпался.
Другой цветок мне удалось отломить целиком. Я поднес его ко рту и долго дышал, стараясь оживить. Но едва он покрылся испариной, как завял, уронив лепестки.
Цветы эти уже нельзя было отогреть.
Не замечая стужи, я бродил по лесу, и под ногами у меня позванивали, ломаясь, мертвые подснежники.
Алька больше не подходила ко мне. И в Жихарево стала бегать другой дорогой, чтоб не показываться у нашей избы.
Потом у нее умерла мать. Альку забрали к себе родственники. Я думал, что в Жихарево, но затем узнал, что нет. Альку увезли в город Будиславль.
От нас до него я насчитал сто восемьдесят шесть километров.
Пикет 200
Вечером, после работы, в палатку забежал прораб, поискал глазами — кто тут есть? — и увидел Женю.
— Кузьмина! — сказал он умоляюще. — Слушай, будь человеком, а?..
И, не давая опомниться, начал говорить, что двухсотый пикет кончили бетонировать, бетон стынет, а печку топить некому, потому что две истопницы укатили в Сатангуй сдавать экзамены.
— Я бы послал другого, но ведь все измотались за день, уснут, к чертовой бабушке! — сказал прораб и ради наглядности закрыл глаза.
Надо было ему ответить, что она, Женя, работала не меньше других, тоже измоталась за день, у нее промокли ноги, до смерти хочется влезть под одеяло и согреться, уснуть… Но Женя смутилась и прошептала:
— Хорошо, Пал Семеныч.
Прораб долго объяснял, что она должна делать, выдал на всякий случай коробок спичек, показал, как зажечь сырые дрова, — Женя терпеливо слушала и кивала головой.
Она опять надела валенки, показавшиеся теперь очень тесными и тяжелыми, сунула в карман кулек с печеньем — чтобы не скучать ночью — и, поеживаясь, вышла на улицу.
К вечеру сильно похолодало. Над палаточным городком висел морозный туман, сквозь который еле различались макушки сосен. Люди попрятались, на тропинках было пусто, лишь у гаража суетилось несколько шоферов: сливали воду из радиаторов. Над гаражом поднимался плотный, будто накрахмаленный, пар. Даже смотреть на него было зябко.
Женя ссутулилась, пихнула кулачки в карманы ватника и скорей побежала к дороге. До пикета 200, наверно, километра четыре, надо поспеть туда засветло.
Уже полгода она жила здесь, в тайге, а все не могла к ней привыкнуть. В палаточном городке, хоть и расположился он на поляне, почти не страшно. А едва отойдешь подальше — обступят вплотную деревья, закроют небо. И сразу будто в снег провалилась: станешь ниже ростом, какой-то пришибленной, жалкой, даже кричать хочется… Слишком она большая, тайга.
Вот и сейчас, на тесной лесной дороге, сделалось неуютно и одиноко. Тишина, мертво, — словно и нет на земле ничего, кроме этих зеленоватых снегов, мохнатых заснувших сопок да рыжей зари, которая медленно гаснет за стволами.