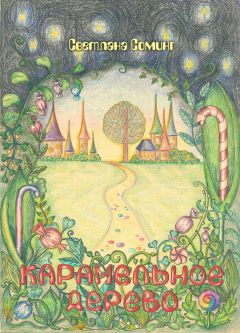Андрей Платонов - Рассказы.Том 4
После завоевания Берлина Шадрин пошел далее на запад, к реке Эльбе. Здесь снова был бой. Сутки непрерывно дрался Шадрин на Эльбе, но это был уже последний бой войны. После боя Шадрин умылся в Эльбе, лег на землю и посмотрел на небо. Ясность неба и его бесконечность были родственны его душе. «Все! — сказал вслух Шадрин. — Свети теперь, солнце, а ночью — звезды!» — и уснул.
На чужой земле лежал худощавый молодой человек со светлыми волосами, с потемневшим от ветра и солнца лицом, пришедший сюда из Сибири. Он спал сейчас счастливым, с выражением кротости на изможденном лице. Он совершил то, чего никто еще не совершал; велика его душа, благотворно его тело и прекрасна его молодость, вся исполненная подвига.
Это было седьмого мая 1945 года.
С тех пор миновало уже много времени. Шадрин по-прежнему служит в Красной Армии. Останется ли он в ней пожизненно или уйдет в гражданскую жизнь на свою родину, в Сибирь,
— неизвестно. Но пожизненно останется в душе Шадрина чувство вечной, кровной связи с армией, ставшей для него семьей, домом и школой за годы войны. Пожизненно долг и честь останутся законом его сердца и поведения, и пожизненно он будет тружеником — на хлебной ли ниве, в мастерской завода или в солдатском строю, — потому что он воспитан в подвиге, а подвиг есть высший труд, тот труд, который оберегает народ от смерти. И этот подвиг — труд солдат — матери, рождающей народ. И так же у нас священно существо солдата, как священна мать.
1945
СЕДЬМОЙ ЧЕЛОВЕК
(Фантастический рассказ)
Через фронт к нам пришел человек. Сначала он заплакал, потом осмотрелся, покушал пищи и успокоился.
Человек был одет худо — в черные тряпки, привязанные к туловищу веревками, и обут в солому. Мягкого тела у него осталось мало, не больше, чем на трупе давно умершего человека,
— сохранились лишь кости, и вблизи них еще держалась его жизнь. По лицу его пошла темная синева, словно по нему выступила изморозь смерти, и оно у него не имело никакого обыкновенного выражения, и только всмотревшись в него, можно было понять, что в нем запечатлена грусть отчуждения ото всех людей, — грусть, которую сам этот исстрадавшийся человек, должно быть, уже не чувствовал или чувствовал как свое обычное состояние.
Он жил, наверно, лишь по привычке жить, а не от желания, потому что у него отбирали и отчуждали все, чем он дышал, чем кормился и во что верил. Но он все еще жил и изнемогал терпеливо, точно до конца хотел исполнить завещание своей матери, родившей его для счастливой жизни, надеясь, что он не обманут ею, что мать не родила его на муку.
Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, — уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела, и поэтому лицо его и опустевшие глаза были столь мало одушевлены какой-либо жизненной нуждою, что не означали ничего, и нельзя было определить характер этого человека, его зло и добро, — а он все жил.
По документам он значился Осипом Евсеевичем Гершановичем, уроженцем и жителем города Минска, 1894 года рождения, служившим ранее старшим плановиком в облкустпромсоюзе; но по жизни он был уже другим существом, может быть — святым великомучеником и героем человечества, может быть — изменником человечества в защитной, непроницаемой маске мученика. В наше время, во время войны, когда враг решил умертвить беспокойное разноречивое человечество, оставив лишь его изможденный рабский остаток, — в наше время злодеяние может иметь вдохновенный и правдивый вид, потому что насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность, и человек предается делу зла сначала с отчаянием, а потом с верой и удовлетворением (чтобы не умереть от ужаса). Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе: в этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было неизвестно и неосуществимо; прежде человек мог быть способен к злодеянию, но он его чувствовал как свое несчастие и, миновавши его, вновь приникал к теплой привычной доброте жизни; нынче же человек насильно доведен до способности жить и согреваться самосожжением, уничтожая себя и других.
2Гершанович к нам пришел при помощи партизан, которых удивил и заинтересовал столь редкий человек, — редкий даже для них, испытавших всю свою судьбу, — способный вместить в себя смерть и стерпеть ее; они его провели, укрывая собою, и пронесли на руках мимо укрепленных очагов противника, чтобы он отошел сердцем от страдания, от самого воспоминания о нем и стал жить обыкновенно.
Речь Гершановича походила на речь человека, находящегося в сновидении, точно главное его сознание было занято в невидимом для нас мире, и до нас доходил лишь слабый свет его удаленных мыслей. Он назвал себя седьмым человеком и говорил, что с ручной гранаты он не подвинул предохранителя, потому что предохранитель был тугой и было некогда его двигать, а тугим предохранитель оказался оттого, что работа отдела технического контроля поставлена не на должную высоту, не так, как в его Минском облкустпромсоюзе.
Затем Гершанович говорил нам более ясно, что он брал домой вечернюю работу; ему нужны были деньги, потому что детей он нарожал пять человек и все его дети росли здоровыми, ели помногу, и он радовался, что они поедают его труд без остатка, и он приучал себя спать мало, чтобы хватало времени на сверхурочную работу; но теперь ему можно было спать долго и ему можно даже умереть — кормить ему больше некого: все его дети, жена и бабушка лежат в глиняной могиле возле Борисовского концлагеря, и там еще с ними лежат вдобавок пятьсот человек, тоже убитых, — все они голые, но сверху они покрыты землей, летом там будет трава, зимой лежит снег, и им не будет холодно.
— Они согреются, — говорит Гершанович. — Скоро и я к ним приду, я соскучился без семьи, мне ходить больше некуда, я хочу проведать их могилу…
— Живи с нами, — пригласил его один красноармеец.
— Я буду здесь жить, а они будут там не жить! — воскликнул Гершанович. — Им так нехорошо, им невыгодно — где же правда?.. Нет, я пойду к ним через смерть во второй раз. Один раз не дошел, теперь опять пойду.
И он вдруг вздрогнул от темного воспоминания:
— И опять я не умру. Убивать буду, а сам не умру.
— Почему? Это как придется, — сказал ему слушавший его красноармеец.
— Так опять придется, — произнес Гершанович. — Фашисту жалко смерти, он скупой, он одну смерть нам на семерых давал — это я им такую рационализацию изобрел, а теперь еще меньше будет давать: немец бедный стал.
Мы не поняли тогда, что хотел сказать Гершанович, мы подумали: пусть он бормочет.
Вскоре к нам пришли четверо партизан. Они, оказывается, давно знали Гершановича как бойца партизанской бригады имени N и сказали нам, что Гершанович — это великий мудрец и самый умелый партизан в своей бригаде. Семья его действительно была расстреляна под Борисовом, когда там расстреляли сразу полтысячи душ, во избежание едоков и евреев.
— А его самого смерть ни разу не взяла, хоть он и не прочь, — сказал один новоприбывший партизан. — Оно понять можно — почему это так: Осип Евсеич человек умный, и смерть ему нужна не глупее его, а фашист воюет шумно, бьет по дурости, — это еще нам не погибель… В Минске Осипу Евсеичу пуля прямо в голову шла — и с ближнего прицела, — а в голову внутрь она не вошла, он ее заранее мыслью упредил…
Мы сказали, что этого не может быть.
— Может, — сказал партизан. — Это кто как воюет. Если воевать умело, то — может быть.
В доказательство он первый попробовал пальцами затылок у Гершановича; потом то же место попробовали мы — там под волосами была вмятина в черепе от глубокого ранения.
3Поживши еще немного с нами, поев хорошей пищи, Гершанович стал более разумным и обыкновенным на вид, и тогда он снова ушел в дальний тыл врага, вместе с четырьмя партизанами. Он хотел вторично пройти тою же дорогой, где его не одолела смерть, где он не довершил своей победы, и потом вернуться к нам в скором времени.
Одетый в белорусскую свитку, обутый в лапти и вооруженный, Гершанович ушел ночью во тьму врага, ради его гибели и ради того, чтобы проведать своих мертвых детей.
Дойдя до Минска по партизанским дорогам, Гершанович отошел от своих спутников и снова, как и в первое свое путешествие, вышел в сумерки на окраину города. Он шел одиноко в тихом сознании, понимая мир вокруг себя как грустную сказку или сновидение, которое может навсегда миновать его. Он уже привык к безлюдию, к смертным руинам немецкого тыла и к постоянному ознобу человеческого тела, еще бредущего здесь живым.
Гершанович пошел мимо лагеря для русских военнопленных. Там за проволокой никого сейчас не было видно. Потом поднялся вдали русский солдат и пошел к проволоке. Он был одет в обгорелую шинель и без шапки, одна нога его была босая, другая обернута в тряпку, и он шел по снегу. Двигаясь на истощенных, трудных ногах, он бормотал что-то в бреду, — слова своей вечной разлуки с жизнью; затем он опустился на руки и лег вниз лицом.