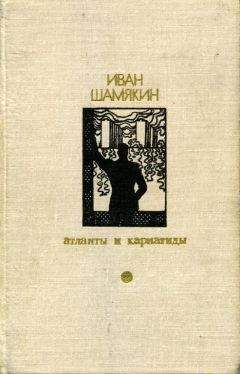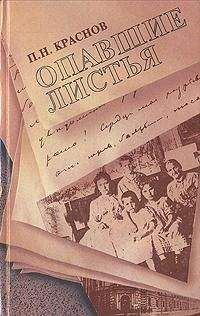Иван Шамякин - Атланты и кариатиды (Сборник)
За столом Игнатович предложил, чтоб Максим передал чертежи мебели фабрике. Максим отшутился:
«Выдадут патент, заплатят хороший гонорар, передам».
Неожиданно серьезно возразил Шугачев: «Это ценно именно в одном экземпляре, в оригинале».
Игнатович сказал: «Куркулями вы тут делаетесь, вижу. Надо будет за вас взяться, а то совсем окулачитесь».
Слова секретаря горкома приняли как застольную шутку. Только Лиза поняла, что муж не шутит, она вдруг стала горячо защищать коллективное садоводство и индивидуальные дачи.
Максим боялся одного — на даче не будет света. Еще в августе кто-то дал команду отключить их поселок от энергосистемы. Пришлось ему тайно договориться с электриками, чтоб подключили к линии, иначе жизнь тут очень бы усложнилась. Отсутствие электроэнергии создавало множество проблем и трудностей. Во-первых — свет, во-вторых — тепло и все прочие удобства. Правда, внизу сделан камин для дров. Но он не любил нижних комнат — перестарался в их отделке, сделал их слишком музейными, более пригодными для праздничного парада, показа, чем для повседневной жизни. Может быть, не любил еще потому, что это были е е комнаты, о н а любила их. Хорошо и уютно чувствовал себя в своей комнате наверху — в мансарде, куда вела узкая винтовая лестница с оригинальными перилами. Комната эта была необычной многоугольной формы, под стать крыше с ее причудливыми выступами. Получились ниши, которые очень продуманно были заполнены сделанными Максимом столами, полками, диванами. Комната служила и кабинетом, и мастерской, и спальней. Лежали свертки ватмана с проектами, стояли липовые чурбаки — заготовки для резьбы — разных размеров: от маленьких, с кулачок, из которых можно было вырезать куклу, до ствола чуть не в рост человека. Все, кто приходил сюда, удивлялись, как удалось втащить на второй этаж такое бревно и зачем оно архитектору. Никто не знал, что была у хозяина давняя, с юношеских лет, мечта — создать скульптуру, которую признали бы настоящим произведением искусства, а творца ее — скульптором. Были заветные сюжеты и множество проб на эти сюжеты, но пока ни одна из них его не удовлетворяла, и он их безжалостно уничтожал. Поэтому несколько лет нетронутой стояла главная заготовка.
В последнее время Максим все чаще и чаще сомневался, что когда-нибудь осуществит свою мечту. О ней знала одна Даша. Даже Витька Шугачев и тот вместе с другими удивлялся его пристрастию, особенно когда он искал эту липу, чтоб была без дупла, ровной структуры. Жена когда-то относилась с почтением, с гордостью к его хобби — художник! Теперь при случае издевалась. И это иной раз заставляло Максима сомневаться в себе. Внимание его все больше сосредоточивалось не на эстетической выразительности или оригинальности, а на функциональной целесообразности зданий, которые он проектирует. Может быть, прав Шугачев: постепенно и незаметно он, признанный архитектор и непризнанный скульптор, превращается в дизайнера. Обо всем этом Максим думал как-то одновременно, сумбурно. Мысли, как тучи, разгоняемые ветром, летели стремительно.
Не раздеваясь — холодно! — он сел на низенький табурет и включил электрический камин. Как и все остальное, камин был оригинальный, не такой, какие продаются, а сделанный друзьями-электриками по его проекту.
Сперва включил лишь маленькую лампочку-ночник в форме старого уличного фонаря, висевшую над диваном. Мягкий свет ночника всегда успокаивал. Но шумел вентилятор камина, колыхалось красно-синее «пламя», забивало спокойное, матовое свечение фонаря светом дрожащим, нервным, неестественно театральным. И в этом свете все показалось неестественным, деланным, игрушечным — все, чему он отдал столько труда, силы, энергии, чем он любил похвастаться перед друзьями. В самом деле, к чему этот музей? Зачем это делалось? Для кого? Не лучше разве так, как у Шугачевых, — просто, безалаберно, тесно, шумно, но уютно и... счастливо?
Еще сильнее почувствовал холод, а с ним пустоту и одиночество. Он всегда боялся одиночества, его всегда тянуло к людям. Правда, с годами чаще приходило желание побыть одному. Но тогда, когда не было этого страшного, как неизлечимая болезнь, сознания одиночества, когда хотелось работать и радоваться — природе, результатам труда и собственным мыслям. Сегодня ничто не радует, а это страшно.
Он выключил вентилятор камина. Исчезли эффекты, осталось одно тепло. Подошел и выключил фонарь. Посмотрел в окно. Светил ущербный месяц — странно! — тоже какой-то неестественный, театральный. Звезды, правда, как звезды. Внизу — он забрался выше всех — белели крыши, отливали каким-то синтетическим светом. Видно, на них, застывших, не растаял снег, падавший с утра (на земле его уже нет), или, может быть, лежал иней. За поселком темнела стена леса. Молодой соснячок. Но сейчас, ночью, в этом искусственном свете лес — что гора, огромный и зловеще черный. И ни огонька. Ни души. Верно, он один в этом диком урочище, которое недаром зовется Волчьим Логом.
Максим подошел к окну в коридорчике, куда выходила лестница. Он больше любил это окно. Из него не открывался широкий вид, однако мир отсюда и не казался тесным. Тут, на косогоре, росли березы. Они подступали к самому домику, протягивали ветви в окно. Как хорошо шумела их листва летом! И сейчас в тени дома их мягкая, ласковая и, казалось, теплая белизна выглядела такой естественной. И шумели березы, как живые существа, тихо-тихо, нежно, как бы боясь потревожить его покой.
С березы на балкончик прыгнул большой кот. Жалостно мяукнул. Максим улыбнулся.
— Ах, бандит, шлялся и хозяина прозевал. А я уж беспокоился, где ты, не извели ли тебя кошки. Небось голодный?
Открыл дверь, впустил кота. Принес из холодильника колбасу.
На миг показалось, что появление живого существа прогнало одиночество и тоску.
Включил все лампы — люстру, настольную, ночник, подсветку в камине. Иллюминация так иллюминация!
В комнате потеплело и стало уютнее. Максим огляделся вокруг. Хотелось, очень хотелось, чтобы все эти вещи, сделанные его руками, плоды его фантазии, вызвали прежнюю, привычную и добрую радость. Но радость не приходила. Все казалось ненужными детскими игрушками, мишурой, как театральный реквизит после спектакля, при обычном, будничном освещении.
Кот терся о ноги и довольно мурлыкал.
Максим сел в кресло, взял на колени кота, погладил пушистую шерсть.
— Завидная у тебя жизнь, Барон. Никаких проблем. Если б ты мог понять, сколько их у меня. Ты знаешь, какое я сейчас сделал открытие? Что здесь, в комнате, подлинное, настоящее и имеет истинную ценность? Только вот эти заготовки, эти бревна. Обычно гости подсмеиваются над ними. Чудаки. Не понимают. Разумеется, можно распилить их на дрова и сжечь. Но только вот этот чурбак, больше ничто, может дать мне радость. Труд и ожидание чуда. Надежду, что наконец из-под моего резца выйдет что-то стоящее внимания.
Опять — в сотый раз! — он задумался над тем, что бы ему вырезать из этой заготовки, чтоб не погубить исключительный материал. Какой замысел мог бы вдохнуть жизнь в это покуда мертвое дерево?
Кот засыпал на коленях, мурлыкал все тише, тонко, как котенок.
А хозяин не мог успокоиться. Нет, не только о резьбе он думал. Он снова перебрал в памяти все пережитое, то, что его больше всего волновало. Работа, архитектура, сегодняшняя конференция и самоотвод, его причины. И опять вернулся к тому, что делал здесь, в этом доме, своими руками. Ради кого он тратил столько времени, энергии, даже таланта, делая все эти игрушки?
— Я, Барон, пилил, строгал, долбил, орудовал резцом. До мозолей на руках. Да, я люблю эту работу. Но, не только для своего удовольствия я поднимался в пять часов утра... Вдохновляло другое — сознание, что мой труд порадует еще кого-то.
Кот недовольно мурлыкнул и ударил хозяина хвостом по руке.
— Я мешаю тебе спать? Дармоед! За то, что я тебя кормлю, ты мог бы проявить больше внимания. Походи и послушай, — Максим беззлобно столкнул кота с колен. Тот, решив, что в чем-то провинился, стал снова виновато тереться о ноги. — Я открою тебе, Барон, одну истину, о которой, пожалуй, никому больше не скажу. Я строил школы, дворцы для людей... Для множества людей... Некоторые люди, сотни или тысячи... пожалуй, могут быть благодарны мне. А вот этот маленький теремок я строил для н и х. Ты понимаешь, Барон, для кого. Да, для двух человек, самых близких мне тогда. Для Веты и для... нее... Черт возьми! Ты видишь, Барон, до чего дошло? Мне не хочется называть ее имя, которое я тысячу раз шептал с нежностью и умилением. Это нелепо, Барон. Да, для Даши. Для Веты и Даши, Для Даши и Веты. Мне хотелось дать им еще одну радость. И мне хотелось почувствовать их благодарность. Тебе, представителю паразитического сословия, не понять, как это дорого — благодарность. Но благодарность людей вообще — это вещь абстрактная, хотя и она приятна. Благодарность людей близких, людей, которых ты любишь, — это величайшая радость и, может быть, главный смысл жизни. Тогда, пять лет назад, я верил в такое счастье. Я нарочно решил все сделать своими... вот этими,., руками. Можно осуждать меня, Барон, за проявление таких... не знаю, как назвать эти чувства. Но мне хотелось, чтоб тут все, к чему они будут прикасаться, чем будут, любуясь, пользоваться, чтоб все-таки напоминало им меня. Разве это дурное, позорное желание? Да нет же, нет, Барон!