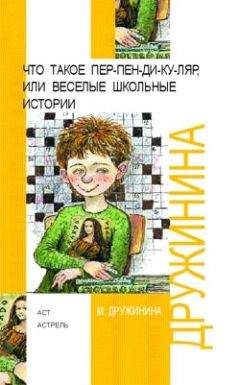Юрий Нагибин - Школьные истории, веселые и грустные (сборник)
— Что ж не купит тебе ручку?
— А папка… у нас… пьет…
Он сказал это совсем глухо, под нос, и тотчас перестал казаться мне смешным, убогим, запущенным, этот черномазый мальчик с давно не мытыми руками.
«Надо будет вызвать отца на собрание — поговорить, побывать у него дома, познакомиться с матерью, — подумала я. — Кстати, скоро будет родительское собрание…»
— Садись, — сказала я.
Я не сразу выбралась в гости к Мише Сафиулину. Отец на собрание не пришел. Мать же я повидала, но ничего не добилась от тихой, такой же, как Миша, смугловатой маленькой женщины. Она не производила впечатления, как это писали в старину, «забитой» или глупой, просто на все мои слова и упреки она только молча смотрела на меня темными мягкими и где-то в самой глубине недоверчивыми глазами, точно говорила: «Ну да… Ладно. Конечно. Мы виноваты, что запустили сына. Но все-таки зря вы тут волнуетесь-кипятитесь… Вырастет он, выучится как-нибудь… А мне за ним следить некогда…»
— Что же вы на мужа своего не влияете? — говорила я и чувствовала: не то, не то говорю. Какие уж тут «влияния»!
Дня через два после собрания я пошла к заболевшей Лиде Смирновой и по дороге решила заглянуть к Мише.
Жил он в новом районе, построенном недавно на месте снесенных бараков. Долго путалась-блуждала среди серых, размещенных в непонятном порядке домов и корпусов, пока наконец нашла нужный номер и подъезд. Была суббота. Вечерело. На красный закат летели галки. Синел на крышах недавний снег. Из-за домов тянуло холодом. Я промерзла и с удовольствием окунулась в надежное тепло подъезда, во все его субботние звуки. Орало в подъезде не в меру включенное радио, гудели, завывая, стиральные машины, где-то пели, а может быть, и танцевали. Вверху, не обращая внимания на все это веселье, кто-то размеренно колотил: тук-тук… бах-бах-бах… бах-бах. Я прошла мимо стучащего лысого человека в полосатых пижамных брюках на резинке, и человек не только осмотрел меня, скривив от любопытства губы как-то на одну сторону, а еще и снизу пытался поглядеть. Я поднялась на последний, пятый этаж и увидела на подоконнике Мишу. Он сидел и гладил кошку. Кошка была худая, некрасивая, с обмороженными ушами. Но она смирно сидела перед Мишей, смотрела на него преданно-любовно, как могут смотреть только животные, выражая взглядом все то, что могли бы выразить языком, если б умели говорить. Оба они, Миша и кошка, вздрогнули, испугались меня, кошка даже пригнулась, готовая бежать. А Миша встал.
— Ты что тут сидишь? Папа дома? — спросила я.
Он покраснел своим темным румянцем, стоял полуотвернувшись.
— Да ведь я не жаловаться на тебя пришла, — попыталась я успокоить его. — Просто ко всем по списку хожу. Вот была у Смирновой. Теперь к вам зашла. Дома папа?
— …Дома.
Я поискала звонок.
— А тут не закрыто…
Я постучала.
На стук вышла девочка, вернее девушка, с одной густо накрашенной бровью — другая еще ждала краски.
— Ой, здравствуйте… Заходите… Вы Мишина учительница? А папка у нас спит.
— Тогда я…
— Да я его счас разбужу. Он уж давно спит.
В комнате на кровати храпел невысокий мужчина и густо-терпко пахло разлитым вином, а также пудрой и духами. В другой комнате, у зеркала, сидели еще две девочки того же возраста, что и хозяйка, видимо подружки, в меру красивые, не в меру накрашенные. Должно быть, я оторвала их от этого любимого занятия. Девочки явно куда-то собирались.
Разбуженный мужчина долго моргал, жмурился, жевал, отдувался, сидя на кровати. Потом сказал, сразу переходя к делу:
— Вы из-за Мишки? Балует?
— Да нет же. Просто знакомлюсь с бытовыми условиями учеников…
Мужчина подавил зевок. Еще поморгал. Еще зевнул. Припухшие глаза его стали внимательнее и кислее. Я молчала. Все приготовленные, обдуманные заранее речи и обвинения как-то вдруг улетучились: я почувствовала, что не смогу сказать этому человеку то, что сказала бы в школе, опираясь на молчаливую поддержку ее стен. Сказать сейчас ему, встрепанному, заспанному: «Опомнитесь! Зачем вы пьете?» И он, конечно, сейчас же рассердится, может быть, даже закричит… Скажет: «Какое ваше дело? Пью на свои…» и т. д. Я хотела спросить, как и когда готовит Миша уроки. Где его стол? Проверяют ли родители задания? Когда Миша ложится спать… и когда встает? Но все мои вопросы показались теперь, едва я взглянула на этого родителя, до того ненужными, искусственными, даже глупыми, что я молчала, и мы просто разглядывали друг друга. «Как готовит уроки?» Но этот папа вообще вряд ли интересуется такими пустяками. Учится, ходит в школу — все… Где стол? Вот он. Какой еще? Еще вон есть в той комнате, в кухне… Каждому по столу, что ли? Следят ли за режимом? Что еще за режим? Захочет спать — ляжет. Захочет есть — наестся. Вот такие ответы читала я на заспанно-похмельном лице. И все-таки спросила учительским, не своим, голосом:
— Как живет Миша? В чем нуждается?
Родитель на кровати посмотрел на меня.
— Как живет? — сказал он, налегая на «ы». — А ничего… Сыт, обут… Ну конечно, мы люди неученые, может, чо недоглядим. Вот вы, конечно, ученые… вам видней. А мы неученые… Но все-таки… То есть, значит… Пью маленько… Но с устатку. Почему не выпить? Правильно я говорю? Ну вот… А вам, конечно… Мать, поди-ко, жаловалась… А вы ее… это… не слушайте… Я тоже понимаю. Пить зашибом не следует. Ну, а седни ведь суббота. Да… — подавил зевок, глаза посоловели. — Да… А за Мишкой наблюдаем. Ленивый он… то правда. Драть надо чаще…
— Зачем же драть? — прервала я.
Родитель осклабился:
— Ну как… Меня вон в детстве моем атес так порол. Шкуру, можно сказать, снимал. А все-таки учиться я не стал… ФЗО только кончил… Ну, вы, конечно, люди ученые, а мы — неученые. Но тоже сказать, кому как ученье… Кому идет в голову, а кому — нет…
В общем, все было мне ясно, понятно без объяснений, и, поговорив еще, чтоб воротничок Мише не забывали пришивать, а руки бы он мыл почище, я ушла, провожаемая вежливо-пьяненьким напутствием:
— Спасибо, значит… Вы, конечно, извините. Вы ученые, а мы неученые, но тоже…
Девочка-девушка, теперь уже с обеими хорошо накрашенными бровями, закрыла за мной дверь.
Миши в подъезде не было. Я увидела его во дворе, где уже сумеречно, по-осеннему синело. Он что-то делал, сидя на ящике, а возле него, склонив головы в разные стороны, сидели две дворовые собаки — рыжая и черная.
Так состоялось знакомство с Мишей Сафиулиным и его родителями. В общем-то, оно не пропало даром. Миша стал приходить в школу почище. Воротничок хоть и не всегда, но был пришит, и я восприняла это как знамение лучшего. Потом я устроила Мишу в группу продленного дня, и, кажется, он этим был очень доволен. Одного не могла добиться: учился Миша по-прежнему, тихонько получал двойки, тихонько исправлял их на тройки и тихонько прогуливал, оправдываясь, что «болела голова», «ездил к бабушке» и тому подобное, а иногда Миша просто отмалчивался, — оставалось махнуть рукой.
Прошла первая четверть, прошла вторая, прошли зимние елочные каникулы. В школе еще долго пахло елкой, висели на окнах забытые бумажные снежинки и фольговые дождины. После каникул наступили январские холода. Каждый день, передавая сводку погоды, диктор говорил: «Сегодня в городе и окрестностях температура утром минус тридцать пять — минус сорок…»
Занятия в младших классах отменили. Но не все ученики пользовались случаем продлить каникулы. Ежедневно у входа в вестибюль я встречала десяток-полтора закутанных до глаз живых матрешек, которые, постепенно освобождаясь от шалей и платков, превращались то в Таню Синицину, то в Нину Красину, то в Сережу Ползунова. Ходил в школу и Миша Сафиулин. Не очень-то закутанный, лишь с завязанной шапкой, стуча промерзлыми сапожонками, он долго переминался у порога, швыркал, хлюпал, вытирал морозные слезы и, только оттаяв, начинал раздеваться.
Однажды утром был такой мороз, что из десятка моих героев не пришел никто. За окнами школы стоял туман. Визжала дверь, впуская седых с мороза, непохожих на себя старшеклассников. И все, входя, крякали, охали, говорили: «Ну и морозище! Наверное, пятьдесят! А завтра еще больше будет!» И все были веселы.
Я постояла в вестибюле до звонка и, решив, что уроков не будет, хотела идти в учительскую. Но тут дверь еще раз приотворилась, и в облаке мятущегося морозного пара вошло, а лучше сказать — протиснулось нечто скрюченное, заиндевелое, которое и оказалось Мишей Сафиулиным.
— Да ты что это?! — удивилась и рассердилась я, хотя как будто бы его именно и ждала. — Что это ты? Зачем? В такой холод? Все равно же не будет уроков! Никто не пришел…
Миша молчал, шмыгал носом, одной рукой отирал иней с ресниц, стучал сапожонками, и мне стало его жаль.
— Ой! Ты же без варежек?! Где варежки?
— Хффф. Хх…е-е-есть, — сказал он.
— Где?
— Хфф… Во-от. — Он вытянул из-за пазухи варежку и в ней еще что-то.