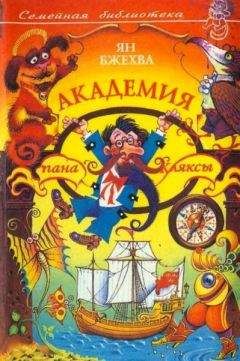Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
Могу сказать, что заседания ЛИТО проходили в абсолютно неформальной обстановке, с чаем, а то и с вином, которое, впрочем, еще не употреблялось тогда в столь безбрежном количестве, как в пору моего литературного становления. Из этого ЛИТО вышло несколько таких заметных писателей, как Виктор Голявкин, Эдуард Шим или Глеб Горышин, один кумир советского мещанства — Валентин Пикуль и два моих любимых автора — прозаик Виктор Конецкий и драматург Александр Володин.
Ни моя тетка, ни Леонид Рахманов не были влиятельными людьми, так что, пробивая в печать труды своих воспитанников, они обращались за помощью и содействием к Вере Пановой или Юрию Герману. Оба маститых писателя, и особенно Юрий Павлович Герман, уделяли много времени и сил возне с литературной молодежью…»
С. Довлатов. Мы начинали в эпоху застоя. Петербургский литератор. Декабрь 1992.
В мое время — вторая половина пятидесятых — никаких вин и чаев на занятиях литобъединения уже не было и в помине. «Мой дорогой и милый друг!
Лучший из людей! Благословляю тебя, скотина паршивая, спасибо тебе за доброту твою и ласку. „Бог создал женщину слабой, чтоб научить мужчину нежности.“ Так написал веселый и умный Джером.
А слабость моя на этот раз выразилась в том, что я зарыдала, когда из твоего конверта выпала розовая десятка. Так что же ты делаешь, осина ты этакая?!
28 августа дважды, харкая кровью, горбато добралась в Пушкине до автомата, линия Пушкин — Таллин безнадежно занята, надо проскочить где-нибудь в 2–4 часа ночи, чтобы выматерить тебя на высоком уровне.
Ну как вернуть тебе десятку, в какие моря? Конечно, я их истратила, сколько же можно было на них умиляться! Но больше не делай этого никогда. Другое дело подарить старухе „Жигули“. Словом: оставь нас, гордый человек. Мы робки и добры душой, ты зол и смел. Оставь же нас, прости, да будет мир с тобою…
Кстати — еще об Александре Пушкине, — когда я была молода и прекрасна, один дерзкий обожатель написал мне письмо с такими строчками: Кобылица молодая, Честь кавказского тавра… Погоди, тебя заставлю Я смириться подо мной!
В г. Пушкине я больше всего другого читала Джерома — давно не брала его в руки. И вычитала про тебя, который „музыцировал, перебирая струны арфы пальцами ног“. Так и вижу над этим благородным инструментом богов твою рожу, искаженную творческими и техническими трудностями. И ноги, которые пахнут ладаном.
Ты упрекаешь, — мало, мол, пишу… Ведь всю жизнь обстоятельства высоким чугунным забором стоят между моей бедной авторучкой и бесчисленными обязанностями. Больной муж, сын, который не получил от бога путеводной звезды и пожизненная моя влюбленность в чужие таланты. А ведь так хочется писать, прямо сердце лопается.
Год 1974 Твоя Маро Довлатова».
Репортаж с одного рядового занятия литобъединения:
«Ковбой соскочил с мустанга, подвел его к могучему кактусу и набросил повод на выдающуюся колючку. Мустанг мотнул головой, покосил бешеным глазом и растопырился. Могучая струя шафрановой мочи ударила из мустанга в пересохшую, растрескавшуюся от зноя мексиканскую прерию. Ковбой ласково потрепал мустанга по гибкой, лебединой шее. Ковбой знал, что перед решающим боем за мексиканскую революцию его верный друг должен был быть, как говорят на флоте, в готовности № 1. Лишний балласт в бою только мешает. Перегруз наших линкоров при Цусиме сыграл с царской Россией злую шутку. Она кончилась революцией похуже мексиканской, потому что линкоры — это вам не мустанги…»
Это писал я. А за обшарпанным канцелярским столом в комнатке без окон на задах издательства «Советский писатель» на пятом этаже Дома книги (б. Зингера) сидел полосатый от вечной тельняшки Валька Пикуль и читал членам элитного литературного объединения молодых писателей Ленинграда свой рассказ о революции в Мексике в… году. Никто из нас, включая автора, ни истории освобождения Мексики, ни того, свободна она ныне или нет, не знал.
Витька Курочкин заглядывал мне в бумажку с текстом пародии, которую я писал одновременно с заслушиванием пикулевского опуса. Потому Витька фыркал в самых трагических местах. Особенно когда Валька вскакивал от творческого волнения со стула и поддергивал брюки. У него на всю жизнь сохранилась манера поддергивать брюки таким образом, как это делают деликатные люди в гостях, если им невыносимо хочется по малой нужде, но не хватает смелости поинтересоваться координатами мест общего пользования.
В продавленном кресле в углу полутемной комнатенки сидел наш руководитель Леонид Николаевич Рахманов, рафинированный интеллигент, матерый драматург, сценарист и прозаик. Ему было еще далеко до собственной «беспокойной старости». Он был строг и, когда Витька прыскал, нарушая творческую сосредоточенную тишину аудитории, говорил: «Виктор Александрович, прошу вас!». Рахманов называл нас по фамилиям или по имени-отчеству. Об истории мексиканской революции, мне кажется, не подозревал и сам Рахманов, автор революционной пьесы про радостное прозрение русской научной интеллигенции после векового сна уже под дулами матросских наганов.
Валька закончил чтение и начал собирать листки рукописи в папку, стараясь скромно не глядеть в глаза кружку€ молодых сочинителей. Он уже был автором двухтомной эпопеи «Океанский патруль», а у нас было по одному рассказику или вовсе еще не было напечатанных.
— Вот тут у тебя сказано, что на мустанге был повод, — начал обсуждение Витька Голявкин. Он всегда был смелым, ибо имел разряд по боксу и уже чуть не вылетел из Академии художеств за художества как на холсте, так и в жизни. — А где уздечка?
— Не лови блох! — сказала Ричи Достян. Она умудрилась родиться в 1915 году в Варшаве. Ричи писала нежную прозу, была роковой красавицей, знала об этом и прикрывалась требовательной резкостью. — Рассказ мне понравился. Особенно там, где герой, э… Как его звать, Валя, я запамятовала?
— Ты «Кармен» читала или хотя бы слышала? — спросил всегда угрюмый Боб Сергуненков. — Вот оттуда Валька и взял имя герою.
Перед появлением в нашем объединении Сергуненков перегонял стада овец то ли из Монголии в Китай, то ли из Китая в Монголию.
— Ромео его зовут, — сказал Глеб Горышин. Они вместе с Бобом появились сравнительно недавно, работали где-то или когда-то в одной районной газете в Сибири или на Алтае и на заседаниях держались рядком.
— Да, Ромео, — сказала Ричи. (В Тбилиси она закончила курс университета по изучению наири-урартской культуры, после чего работала над дешифровкой халдейской клинописи в Грузии и в Армении. Всю войну проучилась в Литературном институте имени М. Горького.) — Вот там, где Ромео оказывается окруженным реакционными индейцами, но не теряет присутствия духа — это просто эпическая сцена. Хотя конец, мне кажется, немного затянут.
— Дерьмо собачье! — сказал Витька Курочкин. Он имел право на такую прямоту, ибо дружил с Валькой нежно и печально.
— Виктор Александрович, прошу вас! — строго сказал Леонид Николаевич, перекладывая ногу на ногу в предвкушении интересного разбора нового произведения, нового и для него тоже. Домой наши рукописи он обычно не брал. Первый удар принимала на себя редактор-организатор объединения Маргарита Степановна Довлатова.
— А продолжение есть? — спросил я. — И вообще перечитай еще разок финал. Я не совсем врубился.
— Конечно, — сказал Валя. — А финал — пожалуйста! Продолжение тоже есть. Второй и третий том. Читаю финал.
«Бой шел к концу. Регулярные войска самозваного диктатора окружили горстку героических повстанцев. Раскаленное ядро ударило в бок мустанга Диего, задев шпору ковбоя. Тягостно запахло жареным мясом. Так пахнет на камбузе эскадренного миноносца, когда он идет в торпедную атаку противолодочным зигзагом под гордо развевающимся Андреевским флагом. Ядро пробило мустанга насквозь. Это была точка.
Никто из повстанцев не сдался.
Они сами предпочли смерть позору».
Аудитория терла лбы и чесала затылки, собираясь с мыслями. Юнга с Соловецких островов хранил ледяное спокойствие.
Литературная мама Пикуля — Маргарита Степановна Довлатова — протянула Вальке новую «беломорину». Одновременно она была и повивальной бабкой «Океанского патруля», нормально переписав за автора около тысячи страниц. Но это не значит, что Маро была добренькой:
— Валя, а вы сами бывали в Мексике? — спросила она, разряжая паузу и отлично зная, что кроме Баренцева моря и Обводного канала автор нигде не был.
— А зачем? — в один затяг спаливая до мундштука папиросу, поинтересовался Валька. — Повару, чтобы сварить суп, не обязательно в нем побывать.
— Товарищи! Внимание! — строго сказал Леонид Николаевич и чихнул три раза подряд. — Простите, это меня опять где-то просквозило. Начинаем серьезное обсуждение. Виктор Александрович, вы что-то хотели сказать?