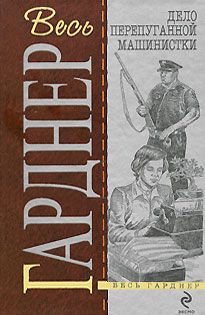Юрий Нагибин - Машинистка живет на шестом этаже
75 лет со дня смерти Ф. Достоевского. А мне хотя бы час, хотя бы миг… после смерти.
* * *Запомнил гипсовый бюст Сократа в актовом зале гимназии: широкий лоб, могучий череп, праздный взгляд болтуна. Очень уютный старик. Его никогда не забудут русские гимназисты.
* * *Меблирашка «Маяк» на Рождественке — улице старой Москвы. Длинная, узкая комната, диван, обитый розовым плюшем, жестяной умывальник, провонявший уриной и мылом, на стене арлекин в полумаске, загаженной мухами, за окном вечерний снег, фонари… Здесь я бормотал стихи, думал о самоубийстве, плакал, как малый ребенок… Житейское, милое… страшное!
* * *Прочел «Жана-Кристофа» и так устал! Сколько накричали люди! Я вышел на улицу — в новь, в мороз, в тишину, в прекрасный окоченевший мир. И разом отдохнул.
А вы говорите — литература, искусство…
* * *Вся ее жизнь на слова Апухтина.
Милая, милая барышня!
* * *— Дорога тебя ждет, счастлив будешь, долго жить будешь, дай денежку, еще погадаю, все расскажу, правду скажу… — Глядит на меня цыганка — пыльная, что дорога, темная, что мощи. Лохмотья на ней — синие, желтые, красные — полевые цветы в засуху. — Невеста ждет тебя, красавица с приданым, дай денежку! Ну, дай же! Не дашь? Смерть ждет тебя! — вскрикнула и рассмеялась чистым детским смехом.
* * *Ушел поезд, только фонарь мигает в хвосте, утопая в черной дыре ночи. Я остался совсем один на глухой российской станции. На стене — последний царь. Внизу — чудище-самовар и стадо стаканов. Сонный буфетчик, провонявший махрой и водкой, глядит на меня осовело. Высокие окна схвачены утренней бледностью. За окнами бежит дорога, пахнет росой и железом. Дальше, в синеве леса, чуть краснеют жесткие кудри дерев. Раннее утро в уездной глуши начала века…
* * *Я разбросал крошки хлеба на окне, чтобы приманить голубей. С какой настороженностью приближались они к «источнику жизни»! Каждую крошку они покупали ценой потрясения… Но ведь в каждой крошке хлеба — крылья, сердце, глаза, в каждой крошке — жизнь! И они слетаются к окну, дрожа мелкой предсмертной дрожью. У них нет выбора.
* * *Ночью, в полубреду, показалось, будто дверь в комнату настежь, за дверью — черно, огонь, туман, звезды… И вдруг, как в луче прожектора, стол, уставленный яствами: куличи, занесенные сахарным «снегом», яйца крашеные и бутыли с причудливыми пробками… Пасхальный стол начала века… А тут еще колокольный звон да полыханье свечей на улице… Еще живы царь с царицей, еще засилье купцов и дворян на Девичьем кладбище… Революция только начинается — слабым, далеким голосом. «Отречемся от старого…»
* * *Все простил Лев Толстой Хаджи-Мурату, Наполеону — ничего, потому что Хаджи-Мурат разбойничал от души, Наполеон — от ума.
* * *В дневнике Жюля Ренара много остроумной печали и поверхностной глубины.
* * *Чуть бы снять лаку, чуть бы взлохматить живопись Брюллова. Вот был бы художник!
* * *Однажды кто-то принес художнику Александру Иванову тетрадь удачных карикатур. Иванов долго их рассматривал и вдруг, подняв голову, промолвил: «Христос никогда не смеялся».
* * *Близится гроза, горячий ветер гонит пыль и листья.
* * *Вдруг молния рассекла небо, и покатились с грохотом деревянные шары грома. Первые капли слезят стекла окон, за ними вдогонку бегут другие, стучат, разбиваются с разбегу… Но вот сквозь дымную пелену прорезался луч. Ни грома, ни молний, и дождь на исходе. Распахнул окно, оттуда нездешняя сумасшедшая свежесть! Радуга обвила небо девичьей лентой. Солнце греет глаза, грудь распирает надеждой…
* * *Нет, не променяю мое сегодня на милое, тухлое детство в старом Петербурге. Зимний вечер, окно, занесенное снегом, извозчик, фонарь. А вверху — черный колпак чухонского неба в бисере звезд. О тесный, обманчивый мир Андерсена и братьев Гримм… Дремучий лес, Красная шапочка и бабка с пилою зубов…
* * *Лев Толстой, умирая, пальцем писал по одеялу. Неужели не сохранили эту — самую подлинную из его рукописей?
* * *Врубеля в летний июньский день в черной, прогретой солнцем карете увезли в сумасшедший дом. Там большие зеленые мухи бьются о стекла окон, за окнами сад, где на жестких скамейках — «испанская знать» в колпаках и халатах.
* * *Карету мне, карету… «скорой помощи»!..
* * *Чехов тревожит душу.
Достоевский — дух.
* * *Картина Дега. Упрямые, давно умершие танцовщицы, окутанные дымкой юбочек, прочно стоят на полупальцах. Сияет старинный паркет. За широким окном лежит давно умерший белый зимний пейзаж старого Парижа.
Тишина, чистота, безнадежность.
* * *К «Фаусту» написали музыку, его поют.
К «Братьям Карамазовым» музыки не напишешь.
Россия и Запад.
* * *Тютчев не мог простить природе равнодушия к человеку: сотворила и забыла.
* * *Утомительный, назойливый пафос. Не литература — а партитура. Ромену Роллану очень мешает музыка.
* * *Я очень люблю тихую, ясную жизнь.
Я очень люблю грозную литературу.
* * *Обыкновенные сюжетики: вдовушка, чья-то женитьба, родители художника… А ведь страшнее «Гибели Помпеи» и «Медного змия». Вот она какова — «нервная система» Федотова.
* * *Старая горилла глядит на меня сквозь чащу седых бровей. В глазах — тяжкая обида живого предка, не вышедшего «в люди».
* * *Всего-то горстка — мои «сочинения», спички довольно, чтобы ушли дымом… Прощайте, милые, может, и встретимся… дымами. И уж тогда про себя каждый: «Боже мой, да где же видались?» И хлынут слезы, и смокнет дым мокрой сединой грязи.
* * *Погасла рождественская елка, и пошел от нее дымок — тоненький, тяжкий, точно в церкви. И уходим мы в детскую — гуськом, грустные, и долго не можем заснуть. В темноте сочится седой свет луны в промерзшее, отяжелевшее стекло. Детство совсем не счастливое, оно очень грустное. У всех. Его называют счастливым за чистоту грусти.
* * *В детстве был у нас немецкий музыкальный ящик. Поднимешь крышку — картинка: голубое небо, летят по небу ангелы — белокрылые, придурковатые. Поставишь железную пластинку с колючками, заведешь — крутится пластинка рывками, поет о старом добром немецком уюте.
Было время — поставляла Германия уют на весь мир! А теперь?..
* * *Первый синематограф! На экране Макс Линдер — в черном цилиндре, с мертвецки бледным лицом и тонкой талией… Гомерический хохот в зрительном зале и унылый мотив на рояле… Вот я выхожу из синематографа. На улице — лошади, лошади, лошади, милые, нежные, печальные предшественники жестоких чудес науки и техники.
* * *Меня уже больше не волнует кладбище. Я утратил мелкое любопытство к смерти.
* * *Кто там бренчит на гитаре, что мешает спать добрым людям? Ах, это опять непутевый Федотов на крыльце дома! Коптит лампа, летают коптинки — мохнатые, черные — в пропахшей красками и керосином квартирке. А здесь… восход, душистая, девичья свежесть летнего утра, пустынный, едва возникший город, в тумане моря корабли и розовый трепет птиц…
Эх, жить бы да жить!
Не тут-то было — не дает покоя мертвая собачонка! Лежит дохлая — ни поиграть, ни побегать! А была как все — резвая, глупая. И вот — не передохнуть от вони! Возле нее горничная в белом — дует амбру; о чем-то спорят доктора; в постели — болящая с горя хозяйка; в щель двери глядит гробовщик; на полу играет мальчишка; живописец кистью спешит сохранить память потомству; в комнате теснота: люди, вещи, комоды, диваны, лампы, шторы, стулья, посуда…
Лихорадит, не дает покоя картина!
Великий художник безжалостен и беспощаден к себе, он подвергает себя тончайшим пыткам — в тишине, в одиночестве, — когда никто не слышит и некому вмешаться.
* * *Не знаю, так ли я рассказал о Борисе Семеновиче Лунине, как хотелось Савину. Но думается, что немногие уцелевшие записи этого несомненного, хотя и несбывшегося писателя говорят сами за себя…
1971