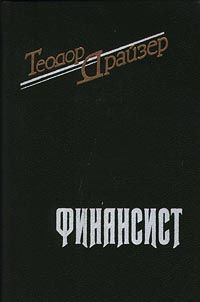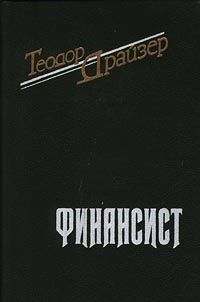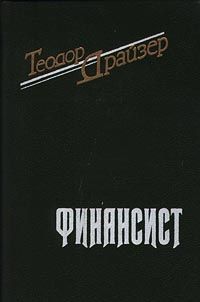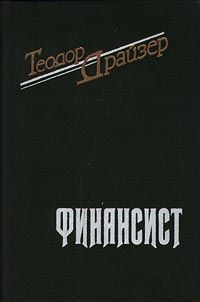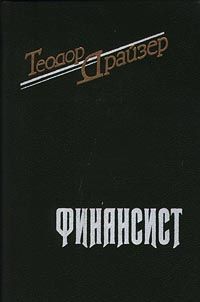Владимир Корнилов - Семигорье
Пока Елена Васильевна была молода и наивна и Алёша подрастал, требуя её забот и материнских чувств, она примирялась с любовью Ивана Петровича и семейными хлопотами. Но Алёша мужал, его душевный мир становился сложнее, всё больше он замыкался в своих интересах и пока ещё робко, но всё определённее тянулся к отцу. Елену Васильевну это не только огорчало, она страшилась потерять свою власть над душой сына. Она хотела видеть Алёшу в его будущей жизни другим, она ещё плохо представляла, каким именно, но только не таким добровольным неудачником, каким был в её глазах Иван Петрович.
После того как Алёша с глупым мальчишеским восторгом поддержал Ивана Петровича в его неожиданном решении уехать из Москвы, сменить высокую должность и столицу на незаметное директорствование где-то в лесной глуши, Елена Васильевна в первый раз так остро и определённо почувствовала, что в семье она одинока. И теперь, стоя в дверях пустой, ещё чужой для неё квартиры, она с необычной доя себя обнажённостью чувств и мыслей видела и заново переживала всё, что долгие годы составляло её семейную жизнь.
«Что наша семья? — думала Елена Васильевна. — Три разных человека под одной крышей. Потолок, стены, стол — у нас одни, песни у каждого свои. Что Ивану Петровичу до моей жизни? Что ему до интересов Алёши? Вместе мы только за столом…»
У Елены Васильевны и прежде возникали подобные мысли. Они на время печалили её и уходили. Но никогда прежде её возбуждённые воспоминаниями чувства не были столь определённы и мысли столь решительны, как сейчас. Елена Васильевна была не в силах одолеть волнение и ходила по комнатам, нервно потирая тонкими пальцами виски.
«Ведь пишет же мне мама — приезжай! — думала Елена Васильевна. — Ведь ещё можно, если не всё, то хотя бы себя возвратить к той жизни, которая мне дорога!..»
В дверь постучали. Елена Васильевна вспыхнула, засуетилась, как будто она делала что-то нехорошее и её могли сейчас уличить в этом нехорошем.
— Да, да, пожалуйста! — крикнула она и пошла на кухню, на ходу оправляя платье и волосы.
В дверь просунулся маленький человек в кепке, с длинным унылым носом.
— Маликов. Зав. хозяйством! — отрекомендовался он и с уважением посмотрел на Елену Васильевну. — Кровати доставил. Куда прикажете?..
С крыльца в кухню одну за другой он втащил две железные кровати, точно такие же, как та, что уже стояла в комнате. Вслед за кроватями внёс четыре волосяных матраса.
— Зачем же четыре?! — удивилась Елена Васильевна.
Маленький человек в кепке почтительно улыбнулся.
— На вашу кровать велено положить два матраса, — сказал он.
Кровати, по указанию Елены Васильевны, он расставил в комнатах, положил на них матрасы. Откуда-то принёс кринку молока, десяток яиц, два каравая хлеба.
— Не извольте беспокоиться, Елена Васильевна, расчёт произведён. Может, подтопок растопить? — заботливо спросил он.
— Нет, что вы, я сама!
— Как вам желательно.
Человека в кепке звали Иван Петрович.
— С Иваном Петровичем мы полные тёзки! — сообщил он с достоинством и, поклонившись, вышел.
Елена Васильевна в растерянности ходила по кухне, зачем-то отодвинула железную заслонку, заглянула в пустое и холодное отверстие русской печи, сплела и до боли сжала пальцы, тяжко вздохнула, прошла в комнату. Присев на корточки, она стала покорно развязывать верёвку на помятом в дороге чемодане.
Всё встало на свои места.
ВОЛГА
— Ой, Витька, думаешь не вижу?! Думаешь, не знаю? Всё вижу, всё знаю. И, пожалуйста, не строй из себя!..
Зойкин голосок как будто старался ущипнуть за больное место. Витька лежал лицом вниз. Ему было хорошо и лениво, как бывает только на горячем песке у Волги, и Зойкины слова были даже приятны, как отдалённое жужжание пчелы.
— Думаешь, не вижу, как замаривает тебя Капка? Ломтя путного не отрежет, так и выхватит в серёдке. Молока дома напиться не даёт! Точит тебя, как короед. А ты… Ишь, тихохонький какой! Смотрю на тебя. Вот-вот молиться начнёшь! Что молчишь, христосик несчастный?! Думаешь, не знаю, что голубя на костре варил? И что картошку на огороде подкапываешь?..
Витька плотнее прижался к песку: Зойка нащупала-таки больное место.
— Молчишь? — Она ударила Витьку по спине.
— Больно, Зой!
— А! Больно?! А мне, думаешь, не больно? За тебя переживать не больно? Слушай, Витька, если будешь молчать, я сама устрою такое! Сегодня же. Как обедать сядем, я ей скажу, бессовестной! И бате скажу. Это что такое, всё на глазах, а он не видит!
— Бате не смей говорить, — глухо сказал Витька.
— Как это не смей?! Привёл в дом Капку, так пускай строжит!
— Говорю, бате не сказывай, — ещё глуше, в песок, сказал Витька. Зойка рванула Витьку за плечо.
— А ну, повернись! А ну, посмотри на меня!.. Это почему не говорить? Ты трус, Витька!..
Зойкино лицо пылало, её взгляд из-под сузившихся век и дрожащих густых ресниц жёг таким презрением, что Витьке стало не по себе. Зойка отпихнула его, охватила свои ноги руками, сжалась в тугой непримиримый комок.
Витька сидел, прижимаясь подбородком к колену, горестно думал: «Ну, что ты, сеструшка, понимаешь? Батя теперь ничто. Сам теперь от людей бегает. Капка матушку извела. Васёнку покорила. Нас с тобой к полу гнёт. Нет, Зойчик, батя ни тебе, ни мне не защита. Самим надо в белый свет выкарабкиваться».
Витька положил руку на разлохмаченную Зойкину голову, как всегда делал, когда хотел помириться, но Зойка отпрянула от его руки.
— Не смей меня трогать! — кричала Зойка, её голос и плечи дрожали. — Ты — трус, трус! — Зойка опять уткнулась лицом в колени. Витька хотел снова погладить Зойкину голову, но раздумал, встал, охватил плечи широкими ладонями, щурясь, оглядел Волгу. Он видел её сейчас всю, от песчаных островов и кос, тёмных среди сверкающей солнцем воды там, где Нёмда вливалась в Волгу, до лугового берега, где ходило стадо. Луговой берег был так далёк, что коровы казались с овцу: опустив к земле головы, они паслись, будто пили зелёную воду.
Вся речная ширь от Разбойного бора за Нёмдой до низкого берега, где ходило стадо, млела в жарком полдне. На стрежне вода морщилась от течения и слабого ветра, рябь полосой тянулась снизу, от далёких отмелей. За Волгой, в густом, как пыль, мареве, прорисовывались багрово-белые края облаков.
Зойка всё ещё сидела, уткнувшись в колени, её согнутая спина с бугорками позвонков под загорелой кожей выражала непримиримость.
Витька вошёл в воду. Шёл медленно, потом быстрее, торопясь пройти отмель. Но, когда дно круто упало вниз и вода плеснула под грудь, он почувствовал идущую из глубины опасность и, как от холода, поджал живот, остановился.
«Волга не любит шутить!» — не раз говаривали старые люди. А с прошлого лета Волги остерегались даже видавшие виды семигорские мужики. Витька помнил тот ветреный день, разорванный отчаянным криком рыжей Феньки, когда на телеге привезли в село укрытого холстиной Костьку, молодого Фенькиного мужа. Лихой парень выпил на берегу с косцами да на беду назвался храбрецом. Выловили его уже неживого…
Волга напирала на Витьку; он переступал под водой, чтобы устоять на ногах, и даже отступил к берегу, где было помельче.
Плыть не хотелось.
Повернув голову, он смотрел наверх, где на горбу широкого холма, выше зеленеющего льнами поля, открыто и вольно стояли избы Семигорья. Окна изб, обращённые к Волге, на солнце дружно светили неподвижным измятым пламенем. Только их, гужавинский дом, примостившийся в тени двух старых берёз, настороженно посверкивал холодком затенённых стёкол. Витька поглядел на дом, на Волгу, сжал зубы и нырнул прямо в багровый край завалившегося в Волгу облака.
Он плыл быстрыми саженками, стараясь забраться как можно дальше против течения. Рябь разгулялась сразу же на ширине, мелко и надоедливо плескала в лицо. Голову приходилось тянуть вверх, плечи от напряжения немели. Он опустил руки, теперь плыл, разгребая перед собой волну, по-лягушачьи отталкиваясь ногами.
На стрежне он почувствовал, как понесла его река. Он видел дуб на берегу, где ходило стадо. Дуб, словно лёгкий пароход, всё быстрее и быстрее уплывал вправо, а берег был по-прежнему далёк.
Витька помнил, что ниже Нёмды, в узком фарватере, за перекатом, Волга заваливалась в круговерть. Если он не успеет пересечь стремнину, там его закрутит, и тогда ему несдобровать. Он чувствовал грудью, под отяжелевшими ногами текучую глубину реки. Волга несла его и расступалась под ним, медленно, как топляк, он оседал в воду.
В лицо плеснула волна, наглухо закрыла рот. Он увидел, как ослепительно белая чайка метнулась к нему, тут же, косо вскинув крылья, с криком взмыла вверх. Витька, задыхаясь, барахтался, отворачивал от волн лицо, яростно отбивался от влекущей его глубины. Наконец перехватил жёсткий, царапающий горло воздух и, обессиленный, повернулся на спину, раскинул руки, пустыми глазами уставился в небо.