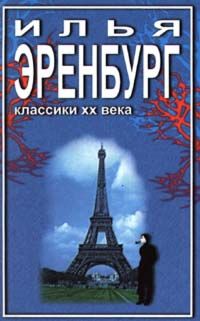Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
— Собрание? Обыскать! И всех в участок!
Даже клубника буколическая не помогла. Провожая, костлявая впервые улыбнулась, нитки чуть обозначились:
— Там тебе покажут с девками гулять!..
Впрочем, Михайлова и прочих отпустили. Только Николая приберегли. Наутро — в Басманную. Ввели в контору. Смотритель — пасюк с торчащими резцами, но в мундире, сразу ошарашил:
— Скидай портки!
— То есть как это?
— А ты без «тоись»…
И сняли, обыск! Рылись, живое тело потрошили. Какой-то сопач рукой мозольной (будто рукавица) в рот забрел, под языком проверил.
Камера — вповалку, кашель, скреб, смрад. Освоился — ведь знал, на что идет. Но кругом беспокойно было. Пасюк работал неустанно, измывался вовсю. В камере четвертой сидел молоденький парнишка, гимназистик, Женя Фикелевич. Подготовлял не только гимназистов, реалистов, но даже институток к «ниспровержению». Тюрьмой был горд. Ему родители прислали ночные туфли и домашнее печенье с миндалем — стыдился. Вообще стыдился, что баловень, что жил в семье, что там кроватка с голубым атласным, что утром приносила мама кофе и ручку калача. Хотел казаться бродягой без угла. С утра и до ночи — служение революции. Вот розового Женю пасюк особенно возненавидел.
— Жиденка изведу. (И острые резцы выглядывали жадно.)
Как-то в воскресенье Женю вызвали на свидание. Мать в конторе. Пасюк уж тут как тут.
— Скажите, сударыня, как вас угодило эдакую пакость уродить?
Женя:
— Не смеете! Я прокурору!..
Мать дрожит, шляпка набок, сумка на пол…
— Женечка, молчи! Вы — господин смотритель? Простите, что мы вас беспокоим…
Пасюк доволен. Женю назад ведут.
— Как вы смеете?
— Вот я те съезжу в харю!
И бац. А через час Женя, выйдя в отхожее, не возвращался долго. Сторож Бабич пошел проверить. У двери вздрогнул. На помочах!.. Под подушкой нашли туфли (стыдился, прятал), крошки миндального печенья и на клочке от папиросной гильзы: «Дорогая мамочка, я так боюсь… Мамуся!»
Николай — рука на железе окна — сухой глаз, сухой стон, железная тяжесть, сердце — запор — порох. Когда же? Скоро!
Пока что месяцы в тюрьме. Допросы. Ротмистра бархатный баритон, чай с лимоном.
— Я душою с вами…
Белки глаз мечтательно ввысь — Гретхен в голубом мундире.
— Ведь я почти революционер.
И снова нары. Карцер. Крысы — другие, без службы. Мокрицы за шиворот. Голодовка и плевки на хлеб (от соблазна). Однообразие: снова били, — в «пьянку», на блевотину. Осень. Скоро ли?
Потом скитания. Теперь профессионал. В Николаеве забастовка, судостроительный. Урал — выборы. Волнения среди матросов. Севастополь. Надо связаться с солдатами. Военная организация. Несвижский полк. Был дворянином Кадашевым. Тер-Бабаньянц, армянин из Нахичевани. Сольской волости, Елецкого уезда, Гавриков Илья Иванович. Бельгийский инженер Сельвер. Имена. Прописки. Приметы. Аресты. Тюрьмы. В Баку провал. Сидел в Лукьяновке[18]. В Иванове-Вознесенске меньшевистское засилье. Самарский централ. В Крыму ингуш — нагайкой. Чайные. Ночевки. В среду, в 4 часа печатники, в 6 ч. р. к. Где ночевать? Блокнот. Адреса на папиросной. (В случае чего — проглотит.) В тюрьме отдохнет.
Одно особенно любил: выступать в рабочих казармах и на митингах, чтобы было побольше лиц чужих, неперелистанных. Еще — чтобы не было имен. Войдет — высокий, худой, в просиженной на разных заседаниях шляпе. Смотрят — агитатор. Тянутся. Он знал эти движения: выгнутые пружины шей, руки выпростанные, чуть приоткрытые, сухие, прогорклые рты. Бородатые, как школьники: на доске мелом «О», и каждый ротик тотчас становится таким же «о» — удивление.
Говорил складно, внятно, слов не кидая пригоршнями, будто мот, бережно раскладывая по всяким головам — курчавым и плешивым, как домовод припасы. Сразу видел всех и никого не видел. В такие минуты верил: не зеваки, не пьяницы, не лежебоки, не мусор — обожженные в горниле муки кирпичи для новых строек. Слово, грузное и рыхлое, как мясо, кидал восторженно:
— За нами массы!..
Второй и третий раз в казарме. Видел — кто и как. Василий из казенки раком ползет домой, да не простым — вареным. Федька — разбуди его, и то: «Орел или решка?» Зобастый Влас всех девок упаковочной, распаковав, испробовал. Увидит, хвост закрутит, мигом увильнет. Все это Курбов вскоре замечал. Не брезгал, не осуждал, усмехался ласково:
— Ну, вам, товарищ Влас, сегодня не до Маркса.
Но исчезали первичные громады. Как глетчер, таяла величественная «масса», обнажая кочки жалкие голов: Василия искристую лысину, смешок молодцеватый Власа. В каком-то из мелькавших городов среди людей встретил человека. Цекист. Кличка — «товарищ Иннокентий»[19] (имени, кажется, и сам не помнил), больной. Ночевали вместе, снял пиджак — лохмотья. Есть забывал. Но не было в нем ничего от аскетизма марксистских начетчиков, среди комментариев затерявших простую радость. Взглянет, улыбнется, и глаза усталые чуть прищуренные раскроются в таком младенческом упоении, что встречный, какой-нибудь усатый регистратор, враг и дурак, тоже взглянет, тоже улыбнется в рыжие колючие усища — жить стоит!.. Раньше, кажется, такие в скитах живали: молились, перевязывали лапу подшибленному журавлю, вне мира были с миром. Теперь не в монастыре, где белуги под соусом и щедроты молельниц, а в самой изуверской партии — такой сыскался. Прочел он… прямо все прочел, на конгрессе Жореса переспорил, разумного желал, а в сердце — любовь бесхитростная, отреченность: дитя, лесная ягода, улыбка.
Николай его встретил на собрании. Туземец-щенок читал доклад об «Использовании легальных союзов». Вздор, а где не просто вздор, там ересь, синдикализм. Николай его мимоходом разоблачил. Такому надо таскать прокламации, а не с ответственным докладом выступать.
Ждут, что скажет товарищ Иннокентий. Медлил. Был очень мягок. Да, принципиально, конечно, но доклад все же весьма интересен, благодарить докладчика и прочий мед. Николай был возмущен. Вышел с цекистом.
— Товарищ, зачем вы прямо не сказали — вздор? Ведь это развращать таких балбесов.
— Вы очень молоды. Он тоже. Вы умней его, но не старше. Да, да. Вот вы не понимаете, что он придет и ляжет к стенке: «Приезжие сказали, значит, я — ничтожество, зачем же жить?» И будет ему плохо, так плохо, — камень голова, щемит, клубок под ложечкой. А плохого много и без нас…
Николай жил двадцать два года, много видел. И вдруг неожиданно, как руку на плечо — что это?.. Растерянно замер. Остановился даже у голубенькой калитки. Товарищ Иннокентий, взглянув, увидел приподнятые брови.
— Ну, что там!.. Я ведь не против вас… А просто надо пожалеть. Без этого и дня не проживешь.
«Жалеть!»
— Жалеть нельзя — для дела вредно.
Товарищ Иннокентий вздрогнул (ему черед), чуть двинул бровью — этого еще не слышал. В первый раз нагнулся — такая глубина. Не знал, что, вытянув худую шейку, щурясь синим близоруким глазом, заглянул в грядущее. Ласково пробормотал:
— Не так, не так…
И, чуя, что словам нет власти над жестокой бледнотой Николая, хотел его пронять беззлобным смехом:
— Разве у нас в программе сказано, что нельзя жалеть?..
Николай еле выжал:
— Может быть. Ну, мне сюда. Прощайте.
Товарищ Иннокентий долго вслед глядел. Потом, печально усмехнувшись, побрел к какой-то фельдшерице, где ему дали ночевку. Хозяйка варила варенье. Пенки в тарелке с голубой каймой. Спросил: как ягоды этим летом, не дороги ли? Вдохнул сладкий пар. Вспомнил что-то, и на губах, где расползалась скрученная папироска, почувствовал сначала вкус пенок, потом печальный материнский поцелуй. Уже вечерело. Подошла собака — старая, с седой бородой, жалобно подышала в руку. Товарищ Иннокентий подумал о Николае — как глядел в упор. Захотелось прилечь. Болезнь сказывалась. На этот раз он смутно порадовался ей — ущербу, слабеющему ходу разреженного и разряженного больного сердца, прохладе, вечеру, концу. Заглянув куда-то, вдруг отяжелел. (Через год, в пятнадцатом, он умер, не увидев, чем закончился вот этот спор, в нежаркий летний вечер, по дороге где-то, кажется, в Уфе, когда сочувствующая фельдшерица варила варенье из лесной малины, а в переулке белые белели щеки и вспыхивали жесткие глаза.)
Расставшись с товарищем Иннокентием, Николай не пошел домой. Он долго бегал по пыльным уличкам, пренебрегая конспирацией, пугая сонных, обалдевших кур. Забрел зачем-то в чайную, взял пару. Чубастый мастеровой кинул пятачок в машину — машина, не ошибаясь, проплакала про бура. И чубастый растравленное сердце, неудачливую жизнь, картинку красавицы из «Нивы», мух и скуку вылил в одно пронзительное верстовое: «У-у-ух!» Николай глазом не повел. Камень. А внутри все ходуном ходило: «Жалеть? Как тот у фельдшерицы?»
Был он другим. Рожден иначе. Пенок вкуса не припомнил на сухих губах. И для других годов рожден. Такой не мог бы умереть в пятнадцатом. Он должен был дождаться и дождался. Вынянчила не любовь, а воля. Жалеть? Но стоит пожалеть ему, и вскочит очумевший, обнимет всех: трактирщика, чубастого, машину, мух; весь изойдет в соленом ливне. А после — ничего. Ложись на скамью, пей чай и, если очень сильно нальется гневом сердце, ухай: «У-у-ух!» И все останется, и будут где-то мамы работать (тиковая ямочка), Провы шуршать ассигнациями, и Мариетты — сонет, бас Власова, бычьи шеи, мясо с перстнем, нежность вшивая Сергеича — тухлятина, цыц, Коленька, лезь в конуру, лижи сапог и блох вычесывай, пока не околеешь. Вот жалость! Нет! Николай Курбов не может жалеть!..