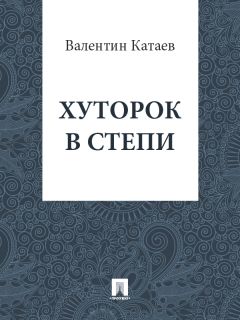Валентин Катаев - Время, вперед!
Она ходила с участка на участок. А участок от участка за два-три километра.
Были участки разные: строительные и жилищные.
На строительных – копано-перекопано: рельсы, шпалы, шашки; там не пройдешь, здесь не перелезешь; то поперек дороги высоченная насыпь, то страшный обрыв котлована; то юбку о колючую проволоку обдерешь, то часовой дальше не пускает; то грузовик, то поезд.
На жилищных – стояли ряды бараков. И не то чтобы два или три ряда, а рядов десять – громадных, длинных, одинаковых бараков. Попадались палатки. Попадались землянки. Тоже большие и тоже одинаковые. Она бродила среди них как потерянная.
Она оставляла мешок у добрых людей – со слезами просила покараулить – и шла дальше искать и не находила и возвращалась – задыхающаяся, мокрая, тяжелая, с черным носом и глазами, докрасна побитыми ветром.
Забирала мешок и тащилась на другой участок.
Садилась на дороге на мешок и плакала; отдыхала.
Начался вечер. Начался, но так и остановился как-то. Ни день, ни ночь. Ни светло, ни темно. Только серую пыль метет вокруг, и сквозь пыль длинно гаснет каленый рельс заката.
Плечо обмирало, немело. Крепко болела спина. Шею схватывало, что головы не повернуть, и тяжесть пудовая в пояснице.
Ох, скорее бы что-нибудь одно. Или заснуть. Или найти. Или назад в поезд. Или напиться холодненькой водички.
Наконец, она наткнулась на своих, киевских. Земляки помогли.
Ищенко ночью вернулся со смены в барак. Феня сидела на его койке.
Он увидел ее сразу, но не узнал и не понял, кто она и зачем здесь.
Она узнала его сразу.
Он шел впереди ребят в темной заношенной рубахе навыпуск, в брезентовых шароварах, низенький, коренастый, опустив широкие плечи, часто перебирая по дощатому полу цепкими босыми ножками.
Она сидела неподвижно, уронив шаль на колени и руки на шаль.
Он видел большой мешок и светлые пыльные волосы, разлетевшиеся вокруг железных гребенок.
Она смотрела на его круглую голову, темную голую шею и жестяные пылевые очки, поднятые на чуб.
Она хотела встать и не смогла. Хотела сказать – и застучала зубами.
Лампочка посреди барака поплыла и брызнула во все стороны лазурными снопиками.
Феня стиснула пальцами угол шали.
Ищенко посмотрел на грубые пальцы с серебряным кольцом, на шаль и вдруг узнал розовую гарусную бахрому.
Он понял и осторожно присел на свою койку рядом с Феней.
Продолжая дрожать мелкой дрожью, Феня не сводила с него синих отчаянных глаз. Он близко увидел ее страшно похудевшее знакомое и неузнаваемое лицо в безобразных желтых пятнах, в слезах, в лиловых подтеках. Он увидел ее высокий живот и ужаснулся.
Но тотчас в нем появилось новое, еще никогда им не испытанное чувство мужской гордости. Это горячее чувство заслонило собой все остальные.
Ищенко через плечо кивнул ребятам на Феню.
– Здравствуйте! – сказал он. – С приездом! Нашла самое подходящее время.
И криво, но нежно усмехнулся Фене.
Она поняла эту усмешку.
– Костичка! – забормотала она. – Ой, Костичка! Ой, Костичка…
И ничего больше не могла сказать.
Она сильно обхватила его плечи трясущимися руками, положила мокрое лицо ему на грудь и, стесняясь посторонних, негромко заплакала.
Ребята сильно устали. Однако ничего не поделаешь.
С каждым может такое случиться.
Никто не ложился.
Пока Феня плакала, пока Ищенко хлопал ее по спине и расспрашивал, пока она суетливо вынимала из мешка гостинцы, пока умывалась и бегала вперевалку в сени, – ребята молча натаскали в барак тесу, гвоздей, электрической проводки…
Через час-два Ищенко отгородили. Феня пока что завесила вход шалью. Всю ночь за семейной перегородкой горела лампочка. До света Ищенко и Феня разговаривали жарким, частым шепотом, чтоб не будить бригаду.
А в семь часов утра Феня уже собралась к соседям просить корыто.
– Ты, Костичка, ляжь, ты, Костичка, отдыхай, – шептала она, взбивая подушку в новой красной наволоке. – Спи себе и не беспокойся, Костичка. Ни о чем, Костичка, не думай…
Он только мычал в ответ. Его одолевал сон. Он так и заснул, как был, в новых штанах и рубашке, привезенных Феней в подарок, не дотянувшись чубом до новой наволоки.
А она – как ни в чем не бывало. Ее охватило страстное, нетерпеливое желание как можно скорее переделать все дела: постирать грязное, убраться, сходить в кооператив, обменять талоны, вымыть пол, сварить обед, протереть окно, обвернуть лампочку абажурчиком, поискать, где тут вольный рынок, разложить вещи, прибить полочку.
Она чувствовала себя прекрасно и только все боялась, что как-то не успеет, не переделает всего, забудет что-нибудь нужное.
Она торопилась к соседям, – скорей, скорей! – извинялась, просила корыто, топила куб, бегала в кооператив, входила на цыпочках за загородку и переставляла вещи на столике, резала ниточкой мыло.
Она чувствовала себя так, как будто всю жизнь прошла на этой стройке, в этом бараке.
Улыбалась соседским детям, переругивалась с отдыхающей бригадой, сияла истощенными глазами, снова ходила с какими-то старухами в кооператив, стояла в очереди перед кассой. И все это – скорей! скорей! – с отчаянной поспешностью, с ненасытной жаждой работы, с тайным страхом перед тем, что неизбежно должно было с ней случиться.
XI
Сметана осторожно заглянул за перегородку. Ищенко спал. Сметане было жалко будить бригадира.
Сметана вошел и присел на табуретку рядом с койкой. Бригадир спал. Сметана поставил локти на колени и обхватил свою белую, совершенно круглую плюшевую голову руками.
В окно било жгучее солнце.
Мухи, вылетая из темноты, чиркали по ослепительной полосе, вспыхивали в ней, как спички, и тотчас гасли, снова влетая в сумрак.
Сметана подождал минуту, другую.
"Надо будить. Ничего не поделаешь". Он потряс Ищенко за крепкое, потное со сна плечо:
– Хозяин! Эй!
Ищенко замычал.
– Подымайся!..
Бригадир лежал как дуб. Сметана развел рот до ушей и пощекотал ему пятку. Ищенко быстро вскочил и сел на койке, поджав под себя ноги.
Он смотрел на Сметану ничего не соображающим, опухшим, розовым, детским, капризным лицом с кислыми глазами.
– Брось, Васильев, дурака валять! – хрипло сказал он и утер рукавом рот и подбородок, мокрые от набежавшей во сне слюны.
Васильев подал ему кружку воды:
– На, проснись.
Ищенко выпил всю воду залпом и мигом опомнился.
– Здорово, Сметана!
Он деловито свел брови.
– Ну, как там дело? Что слышно?
Сметана покрутил головой:
– Разговоры.
– Ага! А кто больше разговаривает?
– Все одинаково разговаривают. Плакат повесили: мы в калоше, а Харьков нас за веревку тащит.
– Это довольно глупо. Маргулиеса видел?
– Видел.
– Ну?
– Маргулиес крутит.
– А определенно ничего не говорит?
– Я ж тебе объясняю – крутит.
Ищенко недовольно посмотрел в непривычно ясное окно. Он хорошо знал все повадки Маргулиеса.
– Ермаков заступил? – спросил он, подумав.
– Заступил. С восьми начали. Заливают последний башмак.
– И быстро льют?
– Обыкновенно. Как всегда. Маргулиес не разрешил больше тридцати замесов в час.
– Ясно. Без подготовки. Сколько ж они ровным счетом должны залить кубов в этот башмак?
– Осталось кубов восемьдесят.
– А потом?
– Потом новый фронт работы. Будут ставить машину на пятую батарею. Часа три провозятся. То – се. А с шестнадцати часов мы начнем. Ну?
Бригадир задумчиво осмотрел свою загородку, чистую скатерть на столике, вымытую посуду, волнистое зеркальце на дощатой стене, шаль в дверях и, усмехаясь, мигнул Сметане:
– Как тебе нравится такое дело? Был холостой и вдруг стал женатый. Ожидаю прибавления семейства. На тебе!
Он сконфуженно накрутил чуб на коричневый указательный палец и медленно его раскрутил.
И вдруг, быстро метнув карими глазами:
– Ханумова видел?
– Видел. Как же! Через все строительство впереди бригады под переходящим знаменем, в призовых штиблетах. Прямо командарм-шесть, черт рыжий.
– А что ребята из других бригад про него говорят?
– Ничего не говорят. Думают, что он непременно Харькову воткнет.
– Непременно он?
– Непременно он.
– Так-таки прямо на него и думают?
– Так и думают.
Ищенко покраснел, отвернулся и стал бестолково шарить по подоконнику.
– А Мося?
– Землю носом роет.
Ищенко так и не нашел очков. Он выругался, швырнул коленом табурет и выскочил на улицу.
Шурины мальчики уже прибивали снаружи к бараку известный плакат с калошей.
Ищенко притворился, что не видит.
– Хозяин, гляди! – закричали мальчики. – Во! Специально для тебя рисовали. Ты не отворачивайся.
Бригадир глянул исподлобья, через плечо, на плакат.
– Можете его вашему Ханумову на спину повесить, – сказал он негромко, а нам этого не треба.
Он опустил голову, натужил шею и пошел бычком, бодая ветер и пыль, часто перебирая босыми ногами по черствой земле.