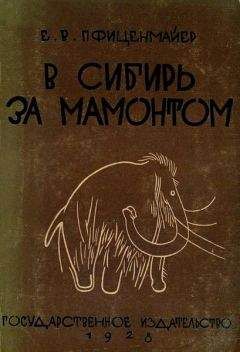Виктор Смирнов - Тревожный месяц вересень
Потом Кукаркин все расспрашивал: «Ну как?» — и посмеивался. А я тоже смеялся в ответ и тоном бывалого парня говорил: «Полный порядок». Ох и муторно мне было! И не понимал я еще одного: если это действительно так здорово, как полагал Кукаркин, то зачем надо было столько пить, до потери соображения? Может быть, и он, Кукаркин, тоже притворялся, тоже играл в эту заведенную людьми игру? Потом, много позже, когда Варвара пригласила в гости и я пришел, я надеялся, что все будет по-другому, что то, первое, забудется, но все было так же, если не хуже, потому что теперь я мало пил, куда мне было теперь пить. А может, спрашивал я, я какой-то недотепа?
…Мировой посредник Сагайдачный выслушал меня серьезно — он прежде всего тем и привлекал к себе людей, что выслушивал серьезно, что бы кто ни говорил и как бы долго ни говорил. За этим маленьким, сухоньким и серьезным старичком во всю стену просторной его небеленой хаты высились сбитые из грубых досок длинные полки, а на полках стояли всякие безделушки и книги в разноцветных кожаных переплетах, старинные добротные книги; их было так много, что если бы они рухнули разом — я почему-то подумал об этом, — то завалили бы Сагайдачного и образовали бы целую пирамиду, и мировой посредник лежал бы в ее центре, как какой-нибудь фараон, что ли. И странно было, что маленькая, наголо бритая голова Сагайдачного вмещает всю мудрость этого несметного количества книг.
— Одним словом, — сказал Сагайдачный, — «Ромео и Джульетта» — не что иное, как ловкий обман… Нет пылкой и самозабвенной любви!.. Худо было бы, если бы так рассуждал поживший на свете мужчина, но раз передо мной ты… Надеюсь, ты все узнаешь. Все верно у писателей, то, о чем ты говоришь, и есть вершина любви. Но ведь вершина любви. — Он задрал кверху голову, словно бы завидя некую ослепительную вершину. И я тоже поднял глаза, но ничего не увидел, кроме засиженного мухами потолка. — Должна быть любовь, понимаешь? Природа все устроила так мудро, чтоб не было обмана, и если тебе после всего хочется бежать к полям и лесам — беги! Беги! Значит, то, что было у тебя, ненастоящее, ложное. И если ты не убежишь — оно развратит тебя, испошлит. Твоя реакция — это реакция нравственно здорового человека. И не бойся, не спеши. Все еще будет, будет так, что тебе не захочется никуда бежать, и твои поля и леса будут в эти минуты с тобой, вернее, с вами, и ты сумей это оценить! Это счастье-большое, редкое, счастье, ибо не каждому дано встретить истинную любовь. Мир велик, и вдруг твоя любовь, одному тебе предназначенная, живет за тысячи верст от тебя, и ты никогда не увидишь ее, никогда ничего не узнаешь о ней… Но если встретишь, если встретишь!..
Так говорил, шепелявя, мировой посредник товарищ Сагайдачный. Наверно, он был прав, наверно, все впереди. Мне стало легко и радостно, но я подумал о своих сверстниках- сколько мне пришлось их перехоронить! И стало обидно за них. Им уж ничего не испытать — ни истинной любви, ни ложной. Думал ли старик об этом?
— Вы это говорите от себя или от книг? — спросил я.
Вот тут он усмехнулся. Рот у него блестел вставным золотом, и на полещан это производило сильнейшее впечатление, и Сагайдачный, зная это, улыбался одними губами, и они растягивались до того, что превращались в бледно-розовые шнурочки. Блестела его наголо бритая голова, блестело пенсне. И Сагайдачный сказал:
— В моей жизни была только одна женщина, с которой я не думал о полях и лесах… Вот до чего все странно устроено. Только одна! Одна на весь мир…
Он не обернулся, но я невольно посмотрел на желтую фотографию, стоявшую на книжной полке за спиной мирового посредника. На этом снимке, с тисненой фамилией фотографа внизу, была изображена молодая женщина в буржуазной соломенной шляпке — первая жена Сагайдачного. И странно — слушая Сагайдачного и глядя на красивую юную женщину в легкой соломенной шляпке, я вспомнил, как шла по озимому полю младшая дочь гончара Семеренкова. Никакой, конечно, связи между женщиной в шляпке и Антониной не было, просто вспомнилось: было раннее утро, озимь чуть взошла над сизой пашней, и по стежке от родника шла девушка с коромыслом. Она шла так легко, так свободно — высокая, прямая, — что я замер, и внутри меня как будто наступила тишина. Озимое поле, и сиреневая полоса лесов за ним, и фигура девушки — все это как будто перенеслось в меня и хрупко застыло где-то там, в непонятной глубине.
Сагайдачный перехватил мой взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы узнать, куда это я уставился. Сагайдачный сказал:
— Она умерла от тифа в тысяча девятьсот девятнадцатом году, под Киевом, шестнадцатого мая.
3
Подойдя к калитке, я остановился и, чтобы привести мысли в порядок, постучал кулаком по лбу, довольно больно постучал. Никак я не мог сосредоточиться на предстоящей работе. Башка у меня странно устроена: нет в ней порядка. Однажды, до войны, бабка попросила постеречь телят, а сама пошла на дойку. И телята вмиг разбежались. Я гонялся за ними, кричал, даже плакал… Ничего не мог поделать. Тот, кто пасет, должен быть старше тех, кого он пасет. Во всяком случае, умнее. Может быть, в жизни каждого человека наступает время, когда он становится старше собственных мыслей. Когда он может ими командовать. Ставить по ранжиру, заставлять сдваивать ряды, равняться на правофлангового и так далее. Но я еще не созрел. Бабка ждала меня у коптилки, зашивая шинель.
— Носит тебя лиха година! — проворчала бабка. — Темнотища на дворе! Молоко выстыло! — Она бросила мне шинель. И запричитала: — Ой, лишенько ж, лихо, одно дите, и все израненное, так и того хотят сничтожить, ироды… А завтра как раз твой день ангела, иванов день, вот и подарочек мне, старухе, — в «ястребки» записали! — Минуты жалости и слезливости у бабки быстро сменялись приступами гнева. Когда я принялся за свое молоко, заедая его ожинским хлебом, испеченным из высевок, Серафима уже сердито выговаривала: — А матка твоя и не знает, трясця ей и трясця, как сынок мается. Небось там сала вдоволь, там войны нет, а вот она и жирует с крендибобером своим! Паскуда!
— Ладно, Серафима, — сказал я. — Успокойтесь… Завтра- Иван, а сегодня тоже не пустой день. Натальин! Грех вам!
Она и вправду сразу успокоилась. Слово «грех» всегда оказывало на нее сильнейшее воздействие. Если исключить пристрастие к ругани, Серафима прожила праведную жизнь. Она столько отработала на своем веку и столько раздала из скудных своих запасов всем сирым, убогим и обездоленным!..
Я подтянул кверху фитиль плошки. Все Глухары пользовались плошками одного типа — произведением кузнеца Крота. Кузнец отливал их из дюраля и брал за каждую по двадцать яиц или иное что эквивалентно. Слова «эквивалент» Крот не знал, но своего не упускал, однако. «Копеечка у него не пропадет, — разъясняла его характер Серафима. — Если в рот уронит, то из… другого места выковыряет».
При свете Кротовой плошки я и уселся разбирать затвор своего карабина и чистить ствол. Сколько ни перебывало у меня оружия за военные годы, даже если оно попадало новеньким и исправным, я всегда начинал знакомство с полной разборки. Этому и Дубов учил: «Кому должен полностью доверять солдат? Во-первых, оружию. Во-вторых, жене. В-третьих, командиру. С чего начинается доверие? Со знакомства! Знакомство начинается с чего? С полной разборки. К жене и командиру это не относится… Разойдись чистить личное оружие!» Слова эти вызывали неизменный гогот, и процедура чистки казалась не такой занудной. Четкий был человек Дубов, ничего не скажешь: кадровик, из пограничников. Зеленую фуражечку он проносил всю войну, подшивал ее, чистил и берег. «Если встретишь зеленую фуражечку, — говорил он, щуря глаз, — знай: ранен будешь — из боя вынесет. Последний сухарь отдаст. Шинелью от дождя накроет… И вообще… цвет надежды, ясно?» С ним легко было и перед боем, и в бою. Надежно. «Эх, если бы и в Глухарах был такой парень, как Дубов! Где ты теперь, Митька? Жив ли?..»
Я разложил на столе детали затвора. Стебель, личинку, планку, пружинку и прочую хрестоматию. Личиночка мне не понравилась: попала она сюда явно из другого затвора, который, наверно, еще при обороне Порт-Артура поработал. Боевые выступы и сосок подносились и потеряли остроту граней. Я потянулся за напильником… Глянул в темное окно: в надтреснутом стекле неровно отражались коптящее пламя плошки и блеск начищенного металла. С улицы, наверно, хорошо было видно все, что делалось в доме.
Представил себе: где-то там, в лесу, в землянке, наверно, тоже сидят и чистят оружие при свете плошки. И обсуждают между делом новость: в селе Глухары объявился новый «ястребок», Капелюх, двадцати лет, бывший фронтовик. У бандюг, конечно, налажена хорошая связь с селом, им все обо мне известно. Сидят они себе и между делом решают мою судьбу. Я перед ними как на ладони, а они от меня скрыты в густом тенечке.