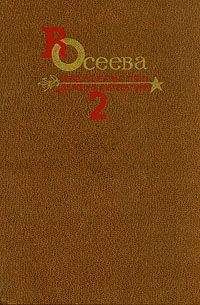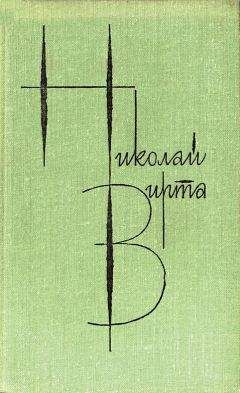Валентин Катаев - Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.
Кривя большой энергичный рот, Юхов всматривался в даль, где над колючим горизонтом покачивались пышные вороха везомого на волах хлеба.
Обогнали длинный поезд качающихся арб. Мальчик с кнутом вел первую арбу, понукая волов. Пестрые бабы смеялись, показывая с двухэтажной высоты шуршащего пшеничного дома белые зубы и коричневые пятки.
— Медленно возите! — крикнул им Юхов.
Немного подальше бригада человек в сорок убирала свой участок. Передаваемые с вил на вилы слоеные пласты хлеба так и летали над поднятыми вверх руками и над старорежимными казачьими фуражками с линялыми околышами. Поле вокруг было уже совсем опустошено, и сиротливой слюдой блестела на солнце паутина.
— Медленно возите, — пробормотал Юхов про себя и неторопливо передвинул кепку с затылка на лоб. Ему не сиделось на месте. Далеко справа показались длинные скирды. Желтыми дирижаблями лежали они в ряд, друг подле друга. Пыльное облако молотьбы сухо стояло над ними, поднимаясь к небу.
Юхов приложил руку к глазам.
— Дубовские молотят. Заедем?
— Нет, лучше сперва в правление, — сказал Мусатов.
— Как хотите.
Скрывая неудовольствие, Юхов равнодушно поправил на горле свитер.
Скирды приближались. Стал виден синий керосиновый чад двигателя. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке скирды. Тени хлеба, подаваемого в невидимую молотилку, летели по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света.
Юхов не выдержал напускного равнодушия.
— Может, заедем? Посмотришь, как у нас организован труд. А?
Пропустить случай проверить работу бригады — это было выше его сил.
— Поверни-ка на минуточку, — не дожидаясь согласия Мусатова, шепнул он шоферу и, по своему обыкновению, до остановки поставил сапог на алюминиевую вафлю автомобильной подножки.
Мусатов вылез, кряхтя, вслед за ним. Он с наслаждением разминал ноги. Он поймал Юхова за локоть и, вспоминая ночной спор с Толстым, сказал весело:
— Ах ты, Левин этакий!
Мусатов любил озадачить человека.
Ну-ка? Что скажет?
Юхов засмеялся и махнул рукой.
— Какой там Левин!
Мусатов поднял брови:
— Да ты про какого Левина думаешь?
— Про того самого, что и ты. Про толстовского. Из «Анны...» как ее... «Карениной». Не так ли?
— Э, да ты, я вижу, знаток классической литературы. Толстого читаешь.
— А почему бы и нет? Государственное издательство печатает, а мы покупаем. Очень просто. Только я, брат, не Левин. Ничего похожего. У него что? Шестьсот десятин, не больше. Мелочь. У меня четырнадцать тысяч га твоего имени.
Юхов широко показал головой в степь.
— Вот и посчитай. Хозяйство!
— Да. Одним словом, «Хозяин и работник».
— Точно так, — сказал Юхов. — Он же хозяин, он же и работник.
— Лихо! — засмеялся Мусатов, медленно подталкивая локтем Льва Николаевича...
Навстречу им с записной книжкой в руке бежал парень в ватном пиджаке, подпоясанном ремешком. Под пиджаком виднелась голубая ситцевая рубаха. Мелкая полова белела на его молодых бровях и ресницах.
Это был бригадир...
1930
Сон[50]
Сон есть треть человеческой жизни. Однако наукой до сих пор не установлено, что такое сон. В старом энциклопедическом словаре было написано:
«Относительно ближайшей причины наступления этого состояния можно высказать только предположения».
Я готов был закрыть толстый том, так как больше ничего положительного о сне не нашел. Но в это время я заметил в соседней колонке несколько прелестных строчек, посвященных сну:
«Сон искусством аллегорически изображается в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и маковым цветком в руке».
Наивная, но прекрасная метафора тронула мое воображение.
Мне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории.
Тридцатого июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семена Михайловича Буденного в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным.
Однако, выполняя боевой приказ, Буденный прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника.
Можно сказать, это был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни гаснуть, ни умыться, ни расседлать коней.
Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве — между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклониться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько верст к колодцам.
Вода была дороже хлеба. Время — дороже воды.
Однажды, в начале отступления, им пришлось в течение трех суток выдержать двадцать атак.
Двадцать!
В беспрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука.
Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица — и ни одного звука...
Вскоре к мукам жажды, немоты, голода и зноя прибавилась еще новая — мука борьбы с непреодолимым сном.
Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади.
Атака кончилась.
Бойцы едва держались в седлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном.
Наступал вечер.
Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза закрывались. Сердце, налитое кровью, тяжелой и неподвижной, как ртуть, затихало медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались головы, съезжали на лоб фуражки.
Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в седлах, как маятники.
Командиры полков подъехали к Буденному. Они ждали распоряжения.
— Спать всем, — сказал Буденный, нажимая на слово «всем», — приказываю всем отдыхать.
— Товарищ начальник... А как же... А сторожевые охранения? А заставы?
— Всем, всем...
— А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет...
— Буду я, — сказал Буденный, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на черном кожаном браслете.
Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок.
— Всем спать, всем, без исключения, всему корпусу, — весело повышая голос, сказал он. — Дается ровно двести сорок минут на отдых.
Он не сказал четыре часа. Четыре часа — это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке.
— И ни о чем больше не беспокойтесь, — прибавил он. — Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут, и ни секунды больше. Сигнал к подъему — стреляю из револьвера.
Он похлопал по ящику маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой потемневший от пота бок своего рыжего донского коня Казбека.
Один человек охранял сон целого корпуса. И этот один человек — командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один — за всех, и все — за одного. Таков железный закон революции.
Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились в роскошную траву балки.
У некоторых еще хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив седла под голову.
Остальные упали к ногам нерасседланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть.
Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все.
Буденный медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалев. Этот смуглый мальчишка еле держался в седле; он клевал носом, делая страшные усилия поднять голову, тяжелую, как свинцовая бульба.
Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец — два бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих.
В ту пору Семен Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, скуласт, очень черен, с густыми и длинными усами на почти оранжевом от загара, чернобровом крестьянском лице.
Объезжая лагерь, он иногда, при свете взошедшей луны, узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына.