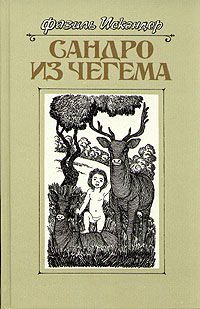Фазиль Искандер - Сандро из Чегема. Книга 1
И тетя Катя рассказывала сон свежий, как только что разрытая могила. Дело в том, что сны ее обычно представляли из себя полулегальные встречи с близкими и дальними родственниками и односельчанами, покинувшими этот мир. Во всяком случае, местность, в которой проходили ее сны, была одинаково доступна для жителей этого и того мира. И те, что уже там, при встрече с теми, что еще здесь, вечно выражали им свое недовольство, предъявляя свой грустный, иногда очень запутанный счет и, главное, сами же, заранее зная, что этот счет никто не оплатит, не выполнит, старались изложить его как можно точней, что должно было лечь дополнительным укором на совесть тех, кто с ними встречался. Они вели себя примерно так, как крестьянин, надолго, может быть навсегда, застрявший в больнице, при встрече с близкими дающий им хозяйственные указания по дому, чувствуя, что они все сделают не так, как надо, и все-таки не в силах отказаться от горькой сладости укоряющего совета.
(Тут ваш скромный историограф хочет взять слово и поделиться своими наблюдениями над природой сна, что ни в коем случае не является попыткой умалить ценность открытий, сделанных в этой области тетей Катей или даже дядей Фрейдом.
Как ни разгадывай сон, который произвел на нас сильное впечатление, истинный смысл его уже в том, что он хотя бы на миг раздвинул перед нами пелену повседневности и дал почувствовать трагическую даль жизни. В этом его могучее освежающее предназначение. Как бы ни был нелеп или запутан сюжет сна, подспудный смысл его никогда не мелочен: неосознанная или, чаще, неразделенная любовь, коварство, страх, стыд, милосердие, жалость, предательство.
Сюжет сна можно сравнить с обезьяной, которая с кинокамерой на шее пробежала по джунглям нашего подсознания. А может, это хлам жизни, вынесенный прибоем на пустынный берег. И вдруг среди сотен бессмысленных кадров мы находим несколько, приоткрывающих истинный смысл увиденного в прибрежном хламе, какой-то никчемный лоскуток тупой болью отяжелил наш сон, и мы, проснувшись или еще во сне, догадываемся, что он напомнил нам платье давно любимой женщины, а мы-то думали, что все позабыто…
И тут мы начинаем понимать, что нужны были сотни нелепых кадров, чтобы сделать убедительными те два-три, которые приоткрыли нам смысл. Ведь если бы все кадры более или менее логически приводили бы нас к смыслу, мы могли бы заподозрить, что кто-то подсунул нам нравоучительную басню. Убедительность находки тем жгучей, чем подлинней мусор, из которого мы ее извлекли…) Разумеется, тетя Катя, разбираясь в своих снах, не всегда доходила до смысла, чаще так и застревала в мусорных тенях своих видений или, так и не сумев за весь вечер снова попасть в колею интересующего сна, откладывала веретено и, схватив головешку, загребала золу и покрывала ею жар, словно семя, которое зарывают в землю, чтобы назавтра очаг снова расцвел дружными всходами плодоносного огня.
– Сегодня что-то ничего не получается… Пора спать, – говорила она, при этом сладко зевая.
– Можно подумать, что она весь вечер чем-то другим занималась, – неизменно отвечал на ее слова дядя Сандро, за привычной насмешкой скрывая досаду на то, что не удалось узнать, чем кончился ее очередной сон.
Однако в тот вечер, когда дядя Сандро, посмеиваясь, рассказывал о том, что он видел днем, случилось совсем другое. Девочка тут же лежала в люльке и в знак всеобщей радости и собственной необыкновенной живости сама себя раскачивала. И вдруг, глядя на отца, который в это время как раз показывал, как он чуть было не пристрелил свою собаку, девочка улыбнулась и сказала:
– Папа!
И тут родственники и соседи, сопоставив ход предыдущих чудес, пришли к неотвратимому выводу, что все это время, начиная с неожиданно узнанной и названной луны, пенья (хотя и без слов) застольной песни, самораскачиванья в люльке, ребенок двигался к тому, чтобы вымолвить: «Папа!» – тем самым пророчески намекнув на его великое и вечное призвание тамады.
Луна означала время его деятельности, раскачивание в люльке и пенье застольной песни – результат его деятельности. (Мысль, что ребенок мог запомнить эту мелодию, потому что ее довольно часто исполняли во время ночных пиршеств в доме дяди Сандро, почему-то никому не пришла в голову.)
– Видишь, даже ребенок тебя осуждает, – не очень впопад, но зато целенаправленно, стараясь использовать каждый случай, чтобы отвратить дядю Сандро от его застольных стремлений, сказала тетя Катя и, крутанув веретено, клюнула носом.
– Наоборот, – отвечал дядя Сандро, смеясь ее неудачному замечанию, – она меня первым назвала, значит, она меня одобряет.
Девочка росла необыкновенно резвой и, еще не умея ходить, пыталась танцевать под всякий звук, из которого можно было извлечь если не мелодию, то, по крайней мере, ритм. Так она вырывалась из рук и раскачивалась в люльке, услышав звон коровьих колокольцев, стук града о крышу, хлопанье ладоней по ситу и даже кудахтанье кур.
В восемь лет она научилась играть на гитаре и вечно волочила ее по дороге между Большим Домом и соседями.
В двенадцать лет она играла все мелодии, которые когда-либо воспроизводились в Чегеме. Играть она могла в любом положении: сидя, стоя, лежа, бегом и даже верхом на дедушкином муле, который, по наблюдениям чегемцев, слегка подплясывал, услышав над собой бренчанье струн.
Но больше всего она любила играть, сидя на макушке дедушкиной яблони. Бывало, в летний день, гремя орехами, всыпанными в нутро гитары, взберется на яблоню и там, у самой вершины на развилке веток и сплетенье виноградных лоз у нее было уютное местечко, где можно было сидеть, часами наблюдая за Чегемом и его окрестностями.
Иногда на голову путника, проходившего по верхнечегемской дороге, вдруг сверху, с небес, обрушивалась бойкая мелодия, и он, остановившись, долго зыркал глазами, стараясь понять, откуда эта мелодия, но и определив, что она льется с яблони, он, продолжив свей путь, пытался обнаружить того, кто там притаился, и нередко спотыкался, а то и шлепался на каменистой верхнечегемской дороге. И тут мелодия обрывалась смехом.
Некоторые путники при этом очень сердились и клялись костями всех покойников, что, видно, на дом этот снизошла порча, моровая чума и сибирская язва, если девки его с гитарами шастают по деревьям, как ведьмы.
– Чем ворошить кости своих покойников, лучше бы присоединился к ним! – кричала девочка вслед сердитому путнику и нарочно изо всех сил ударяла по струнам.
А как она встречала гостей!
– Дедушка, к нам! – бывало, радостно закричит она сверху и, гремя гитарой, скатывается с дерева.
– Может, не к нам?! – с надеждой переспрашивала тетя Катя, которой изрядно надоедали гости.
– К нам! К нам! – на лету кричала Тали и, спрыгнув на землю, бежала к воротам.
А тетя Катя, ворча на людей, которые для собственного разорения нашли лучший способ, поселившись у большой дороги, заходила в дом, чтобы через минуту выйти оттуда в новом качестве, а именно в качестве добродушной хозяйки, приветливо улыбающейся гостям.
А Тали уже мчится за ворота, опережая собаку, и бросается обнимать и тащить в дом родственников, знакомых, а то и просто случайных людей, которых вечер застал на верхнечегемской дороге.
Иной раз, бывало, до утра простоит над столом, подливая гостям вино, подставляя закуски и с жадным, благодарным любопытством выслушивая все, что они говорят. А потом еще и уложит всех гостей, поможет раздеться, с какой-то обезоруживающей смелостью и чистотой подправит подвыпившим одеяло, пожелает всем спокойной ночи и унесет лампу, светясь своим прозрачным лицом – то ли лампа озаряет лицо, то ли лицо лампу…
Черт-те что, подумает гость сквозь сладкую дремоту и уснет, так и не поняв ничего, чтобы потом через годы и годы вспоминать этот вечер, с горчащей сладостью смакуя каждую его подробность.
Зимой, когда выпадал глубокий чегемский снег, девочка верхом на дедушкином муле, впереди всех ребятишек округи, торила дорогу до сельсоветской школы. Голосок ее, особенно звонкий на снегу в эти времена, бывало раздавался на пол-Чегема, и каждый, слушая, как она покрикивает на мула, подбадривает маленьких, вечно спорит со своими двоюродными сестрами, называя их дважды протухшим молоком или трижды прокисшими сливками, невольно улыбался ее горячему голосу на снегу, ее неукротимой энергии. И каждый, кто встречал ее в это время на верхнечегемской дороге и видел, как она на крутом подъеме, раскрасневшись, покрикивает то на своих спутников, то на мула, пошлепывая его ногой, обтянутой толстым домотканым шерстяным чулком и обутой в чувяк из сыромятной кожи с торчащим оттуда пучком особой травы, которую суют туда для мягкости и тепла, к тому же, видимо, очень вкусной, потому что, выбрав мгновенье, мул то и дело пытался отщипать оттуда хоть клок, хоть несколько травинок; каждый, кто видел, как она, ни на секунду не замолкая, оборачивается на самой крутизне и предлагает кому-нибудь ухватиться за хвост своего мула и отгоняет тех, которые пытаются ухватиться за этот хвост, хотя, по ее мнению, и не заслужили этой чести, а те, уже ухватившись, доказывают, что они ее заслужили или, по крайней мере, заслужат в самом скором времени, и наконец всей гурьбой вываливаются на гребень холма, чтобы тут же выкатиться на ту сторону, – каждый, кто видел эту картину, потом, многие годы спустя, вспоминал о ней как о видении пронзительной свежести, юности, счастья.