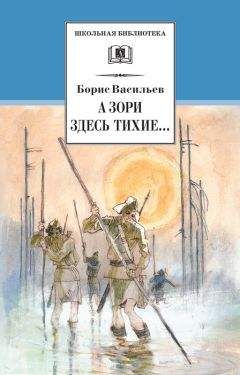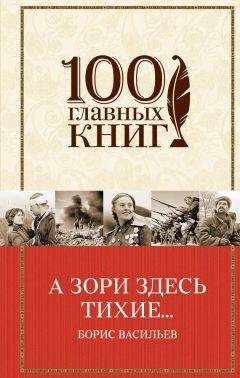Иван Вазов - Повести и рассказы
Помню высокого, черноглазого человека с бледным, кротким лицом, в черном костюме европейского покроя из грубого крестьянского сукна, в фесе и с палкой в руке.
Больше я ничего о нем не знаю. Его нрав, характер, весь его духовный облик исчезли из моей памяти. Перед моими глазами стоит только высокий человек с бледным, кротким лицом, — кажется, красивым. Вот и все.
Он был учителем начальной школы («взаимного обучения» — по-тогдашнему), куда меня, по седьмому году (это было в 1857 году), торжественно привел отец, обутого в новые красные башмаки и короткие штаны.
В то время первоначальное обучение велось по аллелодидактическому или мак-ланкастерскому методу{182}. Помню, как учитель водил моим пальцем по рассыпанному на парте песку, заставляя выводить крупные буквы; как сильно пахло табаком от его пиджака; как стучала по парте его палка, чтобы дети перестали галдеть, или била их по ладони за непослушание.
Эта фигура воскрешает в моей памяти сложную и странную обстановку школы начального обучения, целый арсенал мудрого ланкастерского метода: железные «полукружия» у стен, висящие на стенах «таблицы», по которым мы должны были читать вслух по складам напечатанные крупными буквами слова под руководством старшего ученика с заостренной палочкой-«указкой» в руке, вращающиеся квадратные дощечки, укрепленные на первых партах и регулировавшие занятия классов.
Там был целый сонм учеников, наделенных высокими полномочиями квесторов и начальников: «старших надзирателей», «общих надзирателей», следивших за соблюдением тишины с высоты «седалища» (чего-то вроде кафедры) и оглашавших помещение протяжными возгласами: «Аврам Петков невнимателен!», «Чоно Иванов не слушается!», «Васил Димов безобразничает!» Имелись также «привратники». Вокруг этих церберов у дверей училища постоянно толпились ученики, выразительные движения которых показывали, что у них — настоятельная нужда выйти.
На стенах были развешаны большие куски картона с мудрыми, назидательными изречениями: «Бога бойся, царя почитай!», «Каждой вещи — свое место, каждому делу — свое время!», «Леность — мать порока!», «Сделал добро — забудь об этом!» и другими афоризмами в том же роде. Возле кафедры на черных шнурах висели черные дощечки с надписями: «неприлежный», «бесчинный», «ленивый», «непослушный», «испорченный» и т. п. Эти таблички имели страшное назначение. Они были орудиями морального наказания для тех, кто провинился в вышеуказанных смертных грехах. После троекратного предупредительного вызова к «общему» надзирателю неисправимого ученика ставили перед кафедрой и вешали ему на шею одну из этих табличек, а иногда сразу несколько, в зависимости от характера и количества преступлений. Так, с этими позорными эмблемами на груди, он стоял перед учениками несколько часов либо прямо, либо на коленях.
Этим запас наказаний не исчерпывался. Более серьезных грешников запирали в «темницу», находившуюся под кафедрой. Это был темный, тесный, низкий закуток, куда приходилось входить ползком; внутри пахло плесенью, мышами и кишели стаи крыс и мышей, наводя ужас на заключенных.
Помимо битья по рукам, применялось еще битье по задней части тела, причем наказываемого взгромождали к кому-нибудь на спину. Самым жестоким наказанием считалась «фалага»{183}: два здоровяка валили провинившегося, поднимали кверху его босые ноги (все ходили тогда босиком по методу Кнейппа{184}), соединили их вместе и, под раздирающие вопли наказываемого, подставляли его пятки под учительскую палку.
Но самым страшным наказанием, страшней черных досок, темницы и побоев, было еще одно, скорей нравственное, чем физическое, считавшееся и самым позорным: ученику мазали лицо чернилами и в таком виде выставляли его под безжалостные, злорадные насмешки ребят, потому что дети, в своей ангельской простоте, жестоки, как звери…
За этим наказанием следовало исключение.
Пресловутый ланкастерский метод предусматривал также награды за добродетель. В противовес черным доскам имелись и красные, меньшего размера и на красных шнурах, с надписями: «достойный похвалы», «прилежный», «благонравный», «трудолюбивый», «примерный». Счастливцам, отличавшимся этими доблестными качествами, вешали на грудь красные таблицы, и они так и занимались с ними — на зависть их товарищам.
Хорошие ученики награждались ярлычками — «фулями». Фули представляли собой бумажку размером в четвертушку с печатью училища, на которой был изображен петух — эмблема пробуждения! Их печатали красной, желтой и черной краской. Главной, высшей, наградой были красные. Эти «фули» представляли собой большую ценность, так как ими можно было откупаться от наказания. Прегрешивший мог избегнуть черных досок, битья по рукам, «темницы» и даже «фалаги», уплатив столько-то «фулей»; учитель определял потребное их количество в соответствии с размерами вины.
Были такие хитрецы, которые приобретали эти спасительные бумажки незаконным путем: подкупали школьного служителя мешочком орехов или табака, и тот вытаскивал из учительской целую пачку фулей. Некоторые добывали их при помощи своих родственников, имевших честь быть в близких, приятельских отношениях с учителем Атанасом. А многие прибегали к более изысканному способу: носили учителю вкусный обед из дома, и тот щедро расплачивался красными петушками.
Помню, однако, что мы приберегали наше богатство для важных случаев, героически подставляя руки под палку, чтоб сохранить ярлычки про черный день. Мы были страшные пройдохи!
Учитель Атанас, это непостижимо высокое для нас существо, этот Юпитер, раздающий наказания и награды, вдруг исчез из наших глаз, покинул школу.
Я кончил начальное училище уже при других преподавателях. Но по тому ли, что они преподавали недолго, или из-за своей незначительности они не оставили в душе моей никаких следов.
Глубокий след оставила в ней яркая, своеобразная личность учителя прогимназии (тогда называвшейся «главным училищем»), в которую я перешел из «взаимного».
* * *Это был учитель Юрдан (Ненов) из Пазарджика.
Лет сорока, живой, подвижный, нетерпеливый, полный энергии, он обладал даром слова: речь его была ясная, увлекательная, голос — сильный, становившийся страшным в минуты гнева.
Высшего образования он вовсе не имел, познания у него были отрывочные, бессистемные, но добрая воля и трудолюбие восполняли у него недостаток педагогической подготовки. При нем сопотское училище, резко вырвавшись на первое место в отношении организованности и реформ, достигло процветания. Сюда устремлялись ученики из разных районов Болгарии, и оно выпустило из своих стен целый рой учителей.
Курьезный случай, неудивительный для нравов учителей того времени и их соперничества между собой, дал возможность учителю Юрдану прослыть человеком ученым и вместе с тем прославить училище.
По приглашению карловского старшего учителя Димитра, получившего воспитание в России, Юрдан вместе со своими учениками из старших классов отправился в Карлово, чтобы присутствовать на экзаменах. Там, не знаю уж каким образом, к немалому изумлению множества присутствующих ученых людей, он затеял с учителем Димитром спор о том, есть ли у животных разум? Учитель Димитр доказывал, что есть, так как «когда пробуешь поймать муху, она улетает», а учитель Юрдан утверждал, что у них — только инстинкт. Этот диспут, напоминавший публичные дискуссии древних афинских мудрецов, увлек оба города и, разделив их на два враждебных стана, перекинулся на столбцы царьградских газет{185}. Царьградские ученые стали на сторону учителя Юрдана. После такого приговора, нанесшего жестокий удар честолюбию учителя Димитра, карловское училище оказалось посрамленным, ученики лучших семейств покинули его и перешли в Сопот, чтобы внимать мудрым речам сопотского Аристотеля.
(Я учился тогда в первом классе и был еще слишком мал, чтобы понимать как следует эти дела, — передаю их поэтому, как и остальные, за ними последовавшие, в том виде, в каком слышал о них спустя некоторое время.)
Но, восторжествовав, учитель Юрдан не почил на лаврах. Чтобы еще сильнее поразить умы своей всесторонней ученостью, он придал больше пышности учебной программе. Помимо десятка общеобразовательных предметов да греческого и турецкого языков впридачу, он ввел в старших классах русский и французский языки, тайком изучая их одновременно с учениками; ввел изучение «Истории турецкого царства» на сербском языке; ввел пиитику, астрономию, этику, метафизику! Это была какая-то оргия наук, программа, ослепляющая взор, хаос обрывков знаний, вколачиваемых в ученические мозги шомполом!
Геометрию он преподавал на Трапе — возвышающемся над Сопотом голом холме, куда ученики приносили колья (вехи) и компас на треножнике, производя там геометрические измерения и «межевание» на глазах у ошеломленных этой таинственной, глубокомысленной наукой сопотцов.