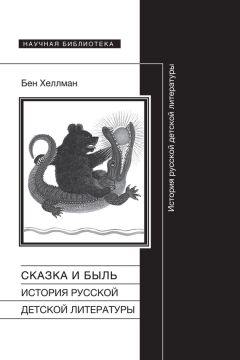Валентин Катаев - Повелитель железа (сборник)
Подошел профессор. Сразу замолчав, они расступились, нехотя пропустили его. Под их взглядами он приостановился, обернулся: — В чем… дело?
В то же время в буфете шум продолжался. Хиврин кричал буфетчику:
— Не смеешь закрываться! Джек! Хам!
Педоти вяло помахивал рукой: — Тише, надо тише…
— Не уйдем! Зови милицию. Джек, хам!
Лимм вопил: — Хочу лапти, лапти, лапти.
— Джек, хам, — кричал Хиврин, — достань американцам лаптей.
Ливеровский хохотал, сидя на прилавке. Когда появился профессор, голова опущена, руки в карманах, — Ливеровский преградил ему. дорогу:
— Профессор присоединяйтесь… Мы раздобыли цыганок… Вина — море…
— Профессор, — звал Хиврин, — иди к нам, ты же хулиган…
Лимм, приподнявшись со стаканом: — Скоуль… Ваше здоровье, профессор…
Ливеровский, хохоча: — Все равно — живым вас отсюда не выпустим.
— Живым? Хорошо… Я буду пить водку… Вот что…
У профессора вспыхнули глаза злым светом: он решительно повернул в буфетную. Ливеровский схватил его за плечи и, незаметно ощупывая карман пиджака, на ухо:
— Как друг — хочу предупредить: будьте осторожны. Если у вас с собой, какие-нибудь важные документы…
— Да, да, да, — закивал профессор, — благодарю вас, я заколол карман английской булавкой…
— Коктейл, — кинулся к нему Хиврин с фужером. Из тени, из-за ящиков выдвинулся Гусев. Ливеровский мигнул, усмехнулся ему. Подошли две цыганки, худые, стройные, в пестрых ситцевых юбках с оборками, волосы — в косицах, медные браслеты на смуглых руках, резко очерченные лица, как на египетских иероглифах…
— Споем, граждане, гитара будет…
Профессор, оторвавшись от фужера: — Чрезвычайно кстати…
Покачивая узкими бедрами, грудью, оборками, звеня монетами, цыганки вошли в буфетную. Профессор за ними.
Гусей сказал Ливеровскому: — Даете щах?
— Нет еще, рановато…
— Что вы нащупали у профессора в кармане?
— Боже сохрани! — изумился Ливеровский. — Да чтоб я лазил по карманам!
Гусев наклонился к его уху; — Живым вас отсюда не выпустим.
Ливеровский прищурился, секунду раздумывая. Рассмеялся:
— Для вас же и было сказано, чтоб вас подманить. Боитесь — уходите наверх…
— Вы — опасный негодяй, Ливеровский.
Ливеровский яростно усмехнулся.
— Хотите, — отменю приказ об аресте?
Ливеровский укусил ноготь. Гусев сказал: — ошибетесь в ответе.
— И все-таки вы попались…
— Досмотрим. — Ливеровский указал на буфет. — Будем веселиться.
В буфетную прошел молодой низенький цыган с кудрявой бородой, будто приклеенной на пухлых щеках. На нем были слишком большие по росту офицерские штаны с корсетным поясом поверх рубашки, видимо, попавшие к нему еще во время гражданской войны; сейчас он их надел для парада. Улыбаясь, заиграл на гитаре, цыганка запела низким голосом. Хиврин молча начал подмахивать ладонью. Профессор закинул голову, зажмурился. Подходили пассажиры четвертого класса, из тех, кто давеча спорили. Косо поглядывали на сидящих в буфете, хмуро удушали. Цыганка пела. Внезапно Гусев схватил Ливеровского за руку и крикнул в темноту между ящиками:
— Там раздают водку!
Ливеровский вырвал руку, кинулся к цыганкам: — Плясовую!
Ночь. Над тусклыми заливными лугами тоскливая половинка луны в черноватом небе. Мягкий ветер пахнет болотными цветами. Мир спит.
Парфенов облокотился о перила, слушает — на берегу кричат коростели. Палуба пустынна, только быстрые, быстрые, спотыкающиеся от торопливости шаги. Парфенов медленно повернулся спиной к борту. Из темноты выскочила Шура — под оренбургским белым платком у нее портфель. Остановилась, испуганно всмотрелась. Парфенов сказал негромко, по-ночному:
— Нашему брату полагается смотреть на эту самую природу исключительно с точки зрения практической… Но, черт ее возьми: коростели кричат на берегу — никакого нет терпения… Меня ничем не прошибить… Весь простреленный, смерти и женских истерик не боюсь, Пушкина не читал, а коростель прошибает… В детстве я их ловил… Соловьев ловил… Курьезная штука — человек…
— Куда это все делись? — спросила Шура.
— А внизу безобразничают. А вы кого ищете?
— Это что, допрос? — Шура задышала носом. — Довольно странно…
Повернулась, торопливо ушла. Снизу из трапа поднимался капитан. Парфенов проговорил в раздумьи вслед Шуре: — Да, дура на все сто…
— Товарищ Парфенов, — у капитана дрожал голос, — что же это такое? Ведь мне же отвечать! Внизу — шум, пение романсов, мистер Лимм, американец, пьяный как дым, — с цыганкой пляшет… В четвертом классе волнение, люди хотят спать… И непонятно — откуда масса пьяных… А кого к ответу? Меня… Вредительство припаяют… Я уж товарища Гусева со слезами просил он меня прогнал…
— Иди спать, — Парфенов похлопал капитана по плечу. — Раз Гусев прогнал — не суйся, там не твое дело…
— Да ведь за порядок на пароходе я же…
— Иди спать, папаша…
— Если еще такой беспокойный рейс… Опять мне американцев будут навязывать… В отставку… Поездил в вашей республике…
Капитан ушел в каюту, где сердито загородил раскрытую на палубе дверь сеткой от ночных бабочек и комаров.
К Парфенову подошел Хопкинсон — волосы взъерошены, галстук на боку:
— Вы русский? — спросил он, приблизя к нему вытаращенные глаза. — Вы коммунист?
— Ну?
— Вы — железные люди… Вы заставили возвышенные идеи обрасти кирпичом, задымить трубами, заскрежетать сталью… О, каким маленьким негодяем я себя чувствую…
— Постой, не плюйся… Чего расстроился-то?
— Моего дедушку белые поймали в Конго, набили на шею колодку с цепью, он умер рабом…
Парфенов сочувственно пощелкал языком, не понимая еще в чем дело.
— Мой отец всю жизнь улыбался своим хозяевам, обманывал, что ему очень весело и легко работать… Он умер рабом…
Парфенов и на это пощелкал языком…
— Я ненавижу белых эксплуататоров, — выворотив губы, сказал Хопкинсон…
— Правильный классовый подход, братишка…
Тогда негр схватил его руки, затряс их изо всей силы:
— Спасибо, спасибо… Я буду тверд!
Отбежал. Парфенов вслед ему, в раздумьи: — И этот сбесился! Ну, Волга!!!
Но Хопкинсон, весь пляшущий от волнения, подскочил опять, белые манжеты его описывали петли в темноте перед носом Парфенова…
— Лучше я вырву себе глаза и сердце… Но предателем — нет, нет… Пусть меня соблазняют самые красивые женщины!.. Пусть я страдаю как черт… Это расплата за то, что мои отцы и деды вовремя не вырезали всех белых в Африке.
— Правильно, братишечка…
— Моя жизнь — вам; русские, — с каким-то, почти театральным, порывом сказал Хопкинсон. — Я плачу, потому что мое сердце очень много страдает, оно очень чувствительное… Черные люди очень похожи на детей, это плохо…
В темноте не было видно, действительно ли у него текут слезы. Парфенов, похлопывая его по плечам, шел с ним к корме:
— Мы, русские, люди со всячинкой, нас еще в трех щелоках надо вываривать, ой, ой, ой — сколько в нас дряни, но такая наша полоса, что отдаем все, что есть у нас, вплоть до жизни, — рубашку с себя снимаем за униженных и порабощенных… (Облокотясь, оба повисли на перилах, на корме.) Баба, что ли, к тебе привязалась? (Негр сейчас же отскочил.) Так пошли ее к кузькиной бабушке, — это же все половые рефлексы… Хотя бабы страсть ядовитые бывают: подходишь к ней как к товарищу, а она вертит боками…
И у тебя в голове бурда. На Волге в смысле рефлексов тревожно…
— Решено! — громко прошипел Хопкинсон и побежал к задвинутому жалюзи окну миссис Ребус… Парфенов закурил и медленно пошел по другой стороне палубы.
Хопкинсон стукнул согнутым пальцем в жалюзи:
— Миссис Эсфирь…… Благодарю за роскошный дар, за вашу любовь… Я отказываюсь… Я не вернусь в Америку — ни один, ни с вами.
Он отскочил и шибко, будто было кончено с миссис Эсфирь. Но за окном ее — темно, никакого движения. И его решимость заколебалась.
Его, как кусочек мягкого железа к чудовищному электромагниту, потянуло к этим черным щелям в жалюзи, за которыми, казалось, притаилось чудовищное сладострастие… Дрогнувшим голосом:
— Миссис Эсфирь, вы слышите меня? Я вас не оскорбил… Это окно мне будет сниться… Никогда больше я не полюблю женщины, в каждой буду ненасытно целовать ваш призрак… Зачем нужно, чтобы я уехал? Вы знаете, с каким великим делом я связан здесь. Я не предам этой страны… Вы искушаете меня? Забавляетесь?.. Зажали рот и смеетесь в темноте… Смейтесь, страсть моя, безумие мое, смертно желанная женщина… (Он распластался руками по белой стенке, словно желая обхватить недосягаемый призрак, и несколько раз поцеловал край оконной дубовой обшивки.) Прощайте… (Отошел, опять повернулся.) Эсфирь, откройте окно, я требую… Я бы мог насладиться вами и обмануть, так бы сделал каждый белый у вас в Америке… Но я негр… Сын раба… Мне священно то, что в вас давно умерло. Именно таким вы будете меня любить… Дайте ключ и глупости вытряхните из головы….