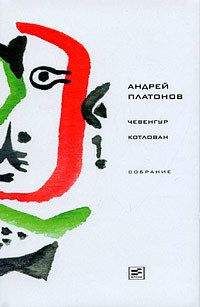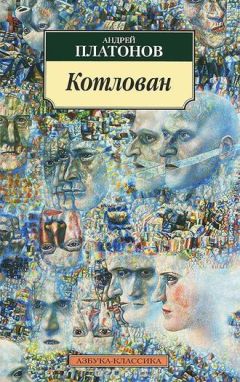Андрей Платонов - Чевенгур
Дванов проснулся раньше Сербинова и поспешил отыскать Гопнера. Два товарища сошлись в кузнице, и здесь их нашел Сербинов. Дванов выдумал изобретение: обращать солнечный свет в электричество. Для этого Гопнер вынул из рам все зеркала в Чевенгуре, а также собрал всякое мало-мальски толстое стекло. Из этого матерьяла Дванов и Гопнер поделали сложные призмы и рефлекторы, чтобы свет солнца, проходя через них, изменился и на заднем конце прибора стал электрическим током. Прибор уже был готов два дня назад, но электричества из него не произошло. Прочие приходили осматривать световую машину Дванова и, хотя она не могла работать, все-таки решили, как нашли нужным: считать машину правильной и необходимой, раз ее выдумали и заготовили своим телесным трудом два товарища.
Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал, но — или степи опустели, или ночи стали безлюдны — еще никто не явился на свет глиняного маяка.
Пока Дванов и Гопнер добивались улучшения своего солнечного механизма, Сербинов пошел в середину города. Между домов идти было узко, а теперь здесь стало совсем непроходимо — сюда прочие вынесли для доделки свои последние изделия: деревянные колеса по две сажени поперек, железные пуговицы, глиняные памятники, похоже изображавшие любимых товарищей, в том числе Дванова, самовращающуюся машину, сделанную из сломанных будильников, печь-самогрейку, куда пошла начинка всех одеял и подушек Чевенгура, но в которой мог временно греться лишь один человек, наиболее озябший. И еще были предметы, пользы коих Сербинов вовсе не мог представить.
— Где у вас исполнительный комитет? — спросил Сербинов у озабоченного Карчука.
— Он был, а теперь нет — все уж исполнил, — объяснил Карчук. — Спроси у Чепурного — ты видишь, я товарищу Пашинцеву из бычачьей кости делаю меч.
— А отчего у вас город стоит на просторе, а построен тесно? — спрашивал Сербинов дальше.
Но Карчук отказался отвечать:
— Спроси у кого хочешь, ты видишь, я тружусь, значит, я думаю не о тебе, а об Пашинцеве, кому выйдет меч.
И Сербинов спросил другого человека, который принес глину из оврага в мешке для памятников и сам был монголец на лицо.
— Мы живем между собой без паузы, — объяснил Чепурный: глину носил он.
Сербинов засмеялся над ним и над деревянными двухсаженными колесами, а также над железными пуговицами. Сербинов стыдился своего смеха, а Чепурный стоял против него, глядел и не обижался.
— Вы трудно работаете, — сказал Сербинов, чтобы поскорее перестать улыбаться, — а я видел ваши труды, и они бесполезны.
Чепурный бдительно и серьезно осмотрел Сербинова, он увидел в нем отставшего от масс человека.
— Так мы ж работаем не для пользы, а друг для друга.
Сербинов теперь уже не смеялся — он не понимал.
— Как? — спросил он.
— А именно так, — подтвердил Чепурный. — А иначе как же, скажи пожалуйста? Ты, должно, беспартийный — это буржуазия хотела пользы труда, но не вышло: мучиться телом ради предмета терпенья нет. — Чепурный заметил угрюмость Сербинова и теперь улыбнулся. — Но это тебе безопасно, ты у нас обтерпишься.
Сербинов отошел дальше, не представляя ничего: выдумать он мог многое, а понять то, что стоит перед его зрением, не мог.
В обед Сербинова позвали кушать на поляну и дали на первое травяные щи, а на второе толченую кашу из овощей — этим Симон вполне напитался. Он уже хотел отбывать из Чевенгура в Москву, но Чепурный и Дванов попросили его остаться до завтра: к завтрему они ему чего-нибудь сделают на память и на дорогу.
Сербинов остался, решив не заезжать в губернский город для доклада, а послать его письменно почтой, и написал после обеда в губком, что в Чевенгуре нет исполкома, а есть много счастливых, но бесполезных вещей; посевная площадь едва ли уменьшилась, она, наоборот, приросла за счет перепланированного, утеснившегося города, но опять-таки об этом некому сесть и заполнить сведения, потому что среди населения города не найдется ни одного осмысленного делопроизводителя. Своим выводом Сербинов поместил соображение, что Чевенгур, вероятно, захвачен неизвестной малой народностью или прохожими бродягами, которым незнакомо искусство информации, и единственным их сигналом в мир служит глиняный маяк, где по ночам горит солома наверху либо другое сухое вещество; среди бродяг есть один интеллигент и один квалифицированный мастеровой, но оба совершенно позабывшиеся. Практическое заключение Сербинов предлагал сделать самому губернскому центру.
Симон перечитал написанное, получилось умно, двусмысленно, враждебно и насмешливо над обоими — и над губернией, и над Чевенгуром, — так всегда писал Сербинов про тех, которых не надеялся приобрести в товарищи. В Чевенгуре он сразу понял, что здесь все люди взаимно разобрали друг друга до его приезда и ему никого нет в остатке, поэтому Сербинов не мог забыть своей командировочной службы.
Чепурный после обеда опять таскал глину, и к нему обратился Сербинов, как нужно отправить два письма, где у них почта. Чепурный взял оба письма и сказал:
— По своим скучаешь? Отправим до почтового места с пешим человеком. Я тоже скучаю по Прокофию, да не знаю нахождения.
Карчук закончил костяной меч для Пашинцева, он был бы рад и дальше не скучать, но ему не о ком было думать, не для кого больше трудиться, и он царапал ногтем землю, не чувствуя никакой идеи жизни.
— Карчук, — сказал Чепурный. — Пашинцева ты уважил, теперь скорбишь без товарища — отнеси, пожалуйста, в почтовый вагон письма товарища Сербинова, будешь идти и дорогой думать о нем…
Карчук тоскующе оглядел Сербинова.
— Может, завтра пойду, — сказал он, — я его пока не чувствую… А может, и к вечеру стронусь, если во мне тягость к приезжему будет.
Вечером почва отсырела и взошел туман. Чепурный разжег соломенный огонь на глиняной башне, чтобы его издали заметил пропавший Прошка. Сербинов лежал, укрывшись какой-то постилкой, в пустом доме — он хотел уснуть и успокоиться в тишине провинции; ему представлялось, что не только пространство, но и время отделяет его от Москвы, и он сжимал свое тело под постилкой, чувствуя свои ноги, свою грудь как второго и тоже жалкого человека, согревая и лаская его.
Карчук вошел без спроса, словно житель пустыни или братства.
— Я трогаюсь, — сказал он. — Давай твои письма.
Сербинов отдал ему письма и попросил его:
— Посиди со мной. Ты же все равно из-за меня идешь на целую ночь.
— Нет, — отказался сидеть Карчук, — я буду думать о тебе один.
Боясь потерять письма, Карчук в каждую руку взял по письму, сжал их в две горсти и так пошел.
Над туманом земли было чистое небо, и там взошла луна; ее покорный свет ослабевал во влажной мгле тумана и озарял землю, как подводное дно. Последние люди тихо ходили в Чевенгуре, и кто-то начинал песню на глиняной башне, чтобы его услышали в степи, так как не надеялся на один свет костра. Сербинов закрыл лицо рукой, желая не видеть и спать, но под рукой открыл глаза и еще больше не спал: вдалеке заиграла гармоника веселую и боевую песню, судя по мелодии — вроде «Яблочка», но гораздо искуснее и ощутительнее, какой-то неизвестный Сербинову большевистский фокстрот. Среди музыки скрипела повозка, значит, кто-то ехал, и вдалеке раздались два лошадиных голоса: из Чевенгура ржала Пролетарская Сила, а из степей отвечала прибывающая подруга.
Симон вышел наружу. На глиняном маяке торжественным пламенем вспыхнула куча соломы и старых плетней; гармоника, находясь в надежных руках, тоже не уменьшала звуков, а нагнетала их все чаще и призывала население к жизни в одно место.
В фаэтоне ехал Прокофий и голый игрок на музыке, некогда выбывший из Чевенгура пешком за женой, а их везла ржущая худая лошадь. Позади того фаэтона шли босые бабы, человек десять или больше, по две в ряд, и в первом ряду Клавдюша.
Чевенгурцы встретили своих будущих жен молча, они стояли под светом маяка, но не сделали ни шага навстречу и не сказали слова приветствия, потому что хотя пришедшие были людьми и товарищами, но одновременно — женщинами. Копенкин чувствовал к доставленным женщинам стыд и почтение, кроме того, он боялся наблюдать женщин из совести перед Розой Люксембург и ушел, чтобы угомонить ревущую Пролетарскую Силу.
Фаэтон остановился. Прочие мгновенно выпрягли лошадь и увезли на руках экипаж в глубь Чевенгура.
Прокофий окоротил музыку и дал знак женскому шествию больше никуда не спешить.
— Товарищи коммунизма! — обратился Прокофий в тишину небольшого народа. — Ваше мероприятие я выполнил — перед вами стоят будущие супруги, доставленные в Чевенгур маршевым порядком, а для Жеева я завлек специальную нищенку…