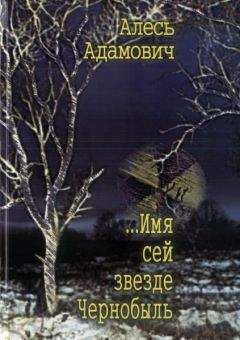Виктор Конецкий - Том 1. Камни под водой
Осколок нашел его голову, когда с «Коробком» все было в порядке. Осколок вошел в затылок и сразу сделал мир вокруг беззвучным на очень долгий срок — на тридцать девять дней. Но старший лейтенант успел дать связь. И первое, что он услышал уже в далеком тылу, в госпитале, был дикий и хриплый крик комбата: «Связь! Дай связь! Связь! Связь! Связь!..» Всю жизнь он занимается тем, что дает людям связь. Люди не могут без нее жить…
9Светало, листва тополей серела, в квартире было совершенно тихо, высокая труба за дальними крышами не дымила, стояла ленивой и тяжелой, стекла окон противоположного дома были густо темны той темнотой, которая рождается только в одиночестве пустых казенных комнат, среди канцелярских столов и проволочных корзин для мусора под ними.
Сигналов ракеты не было, но иногда Федору Ивановичу начинало мерещиться слабое сгущение эфира на 19,990 килоциклах. Это сгущение надо было проявить и усилить. Федор Иванович пробирался сквозь эфир, раздвигая его руками, все дальше и дальше проваливаясь в бесконечность. Сигналы, идущие из космоса, влекли его за собой. Он уже не принадлежал себе. Звездные дали смыкались позади него. Он шел туда, откуда пришли все мы. Нам почему-то не бывает жутко думать о том, что в прошлом мы были оболочкой сверхновой звезды, а потом роились в черноте Вселенной звездной пылью миллиарды и миллиарды лет. Но нам жутко думать, что когда-нибудь мы опять станем холодной пылью и опять будем нестись через пустоту, завихряясь в гравитационных полях неведомых светил и планет. Земля остынет, рассыплется в пыль, и мы, похороненные в ней, станем этой пылью. Красные, синие, оранжевые немигающие солнца будут светить во мраке. И они уже сейчас светят этой ракете. И сигналы ракеты надо принять во что бы то ни стало оттуда, из будущего и прошлого сразу.
Чувство нереальности у Федора Ивановича усиливалось. Он вспомнил госпиталь и странное состояние обозленности на врачей, нянечек и сестер. Казалось, что они специально несут ему обострение боли и издевательство. Иногда ему казалось, что это немцы, что он в плену, что мучают его нарочно. В минуты прояснения ему становилось совестно, он боролся с подступающей ненавистью, но не мог побороть ее, и это было мучительно. Однако самым страшным, кроме, конечно, боли, которая держала его в своих руках целых шесть месяцев, были ночные бреды. Ему мерещилось, будто он начинал медленно распластываться на потной простыне. Его голова утончалась первой, она делалась плоской и тонкой, как кора березы. И начинала загибаться, как загибается кора березы в огне и жаре костра. Потом начинало утончаться все его тело. Но ему не было жутко. Только любопытно. Иногда и теперь еще ему казалось, что он успел познать что-то высшее, совершенно неизвестное остальным людям. Он видел себя со стороны, глазами своего второго «я». Страх наступал потом, после окончания бреда. Страх потери разума — сумасшествия. Это было еще страшнее смерти, хотя бы потому, что он уже прошел через смерть, познал ее.
Однажды Федор Иванович проснулся, когда в палату вошли врачи на утреннем обходе. Он слышал их голоса, чувствовал свет солнца, которое просвечивало его закрытые веки, и слышал стоны и жалобы раненых. Ему совсем не было больно. Впервые за много недель. Он хотел открыть глаза и не смог. И ему было безразлично то, что он не может открыть глаза. «Паралич век», — подумал он как-то со стороны. Захотел поправить сползающее одеяло. Но не смог шевельнуть рукой. «Забавно, — подумал он. — Почему же я слышу?» Он четко слышал нарастающий говор врачей, приближающихся к нему по кругу палаты. Великий покой и отсутствие всякой боли были в нем.
— Как этот?
— Плох. Очень. Всю ночь бился и бредил.
Чья-то рука сжала его запястье.
— Кончается. Сестра, распорядитесь.
Ему хотелось сказать, что он жив еще. Но не было сил, а может, ему было просто невыносимо лень сказать: «Я жив еще». И потом он все время понимал и помнил, что много раненых лежит прямо на полу в коридоре, потому что госпиталь переполнен. Сразу после него сменят постельное белье, и кто-нибудь другой облегченно вздохнет и вытянется, попав на нормальную койку. Ведь он-то кончается. Ему было так покойно! Он не хотел изменений в своем состоянии. И потом он ничего не мог сказать. И ничем не мог двинуть. Как будто отлежал ноги, руки, и губы, и язык.
Федора Ивановича перенесли на носилки. Он услышал голос Воронцова — соседа по койке, майора-танкиста:
— Авторучку я возьму. На память. Хороший был парень…
И понял, что Воронцов сказал это про его авторучку. И ему захотелось улыбнуться от сознания своего великого превосходства над Воронцовым и всеми вокруг. Но он не мог и этого.
Его понесли.
И все стало еще дальше уходить от него. Огромное одиночество, которое смыкалось вокруг него, было родным и близким. Потом его стащили на каменный пол в подвале. Чудовищность боли, которая ударила по всему телу, чудовищность страдания, нестерпимость страдания были так велики, что он прорвал покой и тишину, в которые погрузился, слабым криком.
Через несколько минут он лежал на операционном столе — и остался жить. Его спасла боль.
«Все-таки очень славно, что она спасла меня тогда, — подумал Федор Иванович. — Страх тоже ограждает и спасает людей. Без страха мы бы все давным-давно погибли, мы бы шли прямо на автобус и хихикали при этом, и автобус переезжал бы через нас. Веселенькая была бы жизнь! Но и страх и боль сами могут убить, если они станут слишком большими. Боль убивает тело, страх — душу. И кто знает, где кончаются границы блага, которые они несут с собой?
А сейчас надо вспомнить заливные луга и испуганных лошадей, несущихся по росистой траве, их трепетное ржание и легкий пар из раздутых ноздрей, и огромное спокойствие реки, текущей навстречу лошадям. Надо вспомнить детство, в котором так мало боли и осознанного страха…»
В этот момент он первый раз услышал позывные ракеты. Вернее, он не услышал их, а почувствовал. Его мозг, его слух, весь он вдруг напряглись и застыли в этом напряжении. И Федор Иванович, и приемник, его лампы, конденсаторы и сопротивления, и антенна — все это стало одним напряженным до крайности ухом, обращенным к луне, к бесконечности. Они слышали сигналы не больше десятой доли секунды, потом опять все пропало, и медленно стала спадать судорога напряжения. В душе Федора Ивановича наступила радость. Теперь он не сомневался, что победа будет за ним. Но голова болела очень сильно, и все могло случиться, и потому он заставил себя встать, отвлечься от приемника. И написал несколько слов Нэльке: Рита находится там-то, ей следует отнести то-то. Потом он свернул Ритино белье и платье, запаковал их. Мягкие женские тряпки поддавались его рукам непривычно и легко. Аккуратно складывая их, он подумал, что его кюэсельки Рита рано или поздно, но выкинет. Она ведь никогда не сможет понять, как много они для него значили.
Комната покачивалась среди светлеющей над землей ночи, и комнате нельзя было дать остановиться.
Федор Иванович вернулся к приемнику и надел наушники. Он сразу же вошел в ритм поиска, работы. И вспомнил Риту, совсем маленькую, на плечах отца среди шумливой и веселой первомайской демонстрации. Вспомнил, как тихо и невыносимо скорбно колебалась эта толпа среди страшного мороза, среди пара и коротких печальных вскриков. Он вспомнил дымные и красные пятна костров, серые от инея кремлевские стены, низкое и безнадежное зимнее небо. Это было, когда хоронили Ленина. Отец нес его на плечах, высокий и сильный, с заледеневшими усами, сухими глазами и тугими, морозными скулами. Отец держал его за щиколотки большими и жесткими руками без рукавиц. Федору было тогда четыре года. Но все помнилось с полной отчетливостью. Так огромна, величава была скорбь людей, такая сила и мощь сплочения были в толпе, что даже четырехлетний мальчишка мог что-то понять и запомнить на всю жизнь…
Последний раз они с отцом встретились в камере следователя. Федора ввели в кабинет. За столом сидел дядя Костя, знакомый с детства, веселый и затейливый дядя Костя. Это было как гром, как бомба, как вспыхнувшее в полночь солнце. Если здесь дядя Костя, значит, все станет сейчас простым и легким и кончится весь ужас и тоска последних недель, недель после ареста отца. И стал слабеть тусклый, холодный страх, который держал его в коридорах этого здания. И захотелось кинуться к дяде Косте, обнять его, спрятаться за него.
— Какое счастье, что ты здесь! — растерянно и радостно сказал Федор, продолжая, однако, стоять у порога, не решаясь ступить дальше.
— Проходите, Федор Иванович, — сказал дядя Костя незнакомым, усталым голосом. — Садитесь.
Так Федора в первый раз в жизни назвали по имени и отчеству. Он прошел и сел. Дрожь, и тусклый страх, и внутренний холод вернулись, ноги ослабели.
Дядя Костя закурил и сжал челюсти, на монгольских скулах вспухли и опали желваки.