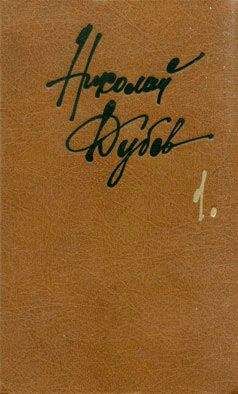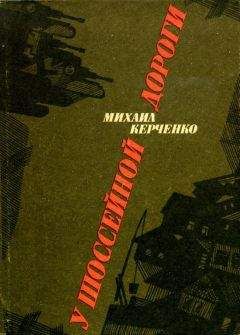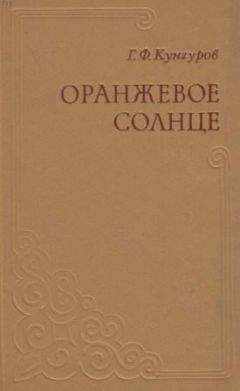Иван Яган - За Сибирью солнце всходит...
— Понимаете, Всеволод Сергеевич, опоздал на автобус.
— Не надо опаздывать, — отечески буркнул главный.
— Само собой понятно, что нельзя, да так получилось, — не успокаивался я.
— Знаешь, а опаздываешь...
Тут у меня забился кадык, перехватило дыхание. Я крепко взял за воротник шофера, потянул к себе.
— Остановите машину! — Запели тормоза, «Волга» плавно подчалила к правому тротуару, и я вышел из машины. Ни шофер, ни главный не спросили, в чем дело. Только я захлопнул дверцу, «Волга» с места рванула вперед...
Я опоздал к началу актива на 15 минут.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
После всех тревог и расстройств душа моя оттаивала здесь, в переулке, названном Коротким, в доме стариков. Удивительные, не раз обиженные жизнью люди, они умеют успокоить, настроить на добрый лад, не дают ни озлобиться до крайности, ни утонуть в равнодушии. Мне нравятся умиротворяющая непритязательность их быта и крестьянская простота отношений. Собственно, с каких щей мне и притязать на что-то? Пришел я в этот дом приймаком, пришел с чемоданчиком, в котором, кроме двух тельняшек и брюк с форменкой, было несколько тетрадок со стихами.
По сравнению с бытом Сереги Квочкина мой быт выглядит гораздо проще, примитивней. Поднимаюсь на крыльцо, попадаю в сенки. Открываю дверь — и я в квартире. Она вот какая: сразу — кухня, в которой четверым взрослым уже тесно. Печка и небольшая перегородка отделяют кухню от комнаты площадью в восемь квадратных метров. Все. Более искать нечего, лучше описать наши «прихожие», «залы», «светелки».
Прихожая — это сенки, зимой холодные, летом — мое спасение. Здесь в теплую пору я сплю на койке с панцирной сеткой. Есть стол, заставленный банками, бутылками, мешочками с крупой, сахаром, компотом, пожелтевшим свиным салом. В часы вдохновения, ночами, я пишу, сидя на койке, поставив перед собой табуретку, которую тесть приволок из «полуклиники» как списанную. В выходные дни я выношу эту табуретку в огородик, устанавливаю за помидорным и огуречным рассадником, сажусь на перевернутое старое ведро, подложив старую фуфайку тещи или тестя. Пишу и одновременно принимаю загар. Обольюсь водой из бочки, покурю, оботру мокрые руки и опять пишу. Рядом полетывают пчелы (у соседа ульи), ползают всякие жучки-паучки, пахнет чесноком, луком, укропом, огуречником. Пахнет деревенским детством. И я пишу. Пишу, не мечтая о каких-то удобствах.
А зимой? Да ерунда — зима! Вот как мы живем зимой. С осени я выписываю на заводе две тонны угля и машину дровяной срезки. Тепло обеспечено. Оно нам нужно теперь особо: у нас появилась дочка Маринка. Имя ей выбрал я: Марина — значит «морская». С прибавлением дочурки в комнате стало потесней — поставили кроватку-качалку. Воды требуется больше, поэтому за ней к колонке уже я не хожу с ведрами, а «езжу» — вожу воду в четырехведерной фляге на специальной тележке или саночках. Делаю по нескольку рейсов.
Многое в быту и обычаях стариков для меня ново, и я с интересом вживаюсь. Мой дофлотский и флотский опыт кое в чем тоже пригодился в доме.
Вот мы поужинали на кухне. Мне хочется, чтобы стол поскорее освободился от посуды, и я мог бы расположиться за ним писать контрольную или курсовую работу. Теща наливает в эмалированный тазик кипятку и складывает в него посуду. Но мыть еще нельзя, так как вода обжигает руки. И вот сидит старуха, рукой, как кошка лапой, пробует воду: быстро макнет и отдернет. Когда рука терпит, начинает мыть посуду. Но вода остывает быстро, и с последних тарелок жир смывается плохо. После мытья теща протирает тарелки махровым полотенцем. На тарелках остаются ворсинки.
Я вспомнил, как моют посуду на корабле. Однажды распотрошил новую травяную кисть для побелки и связал несколько небольших кисточек. После очередного ужина, когда теща залила посуду кипятком и села ждать, я предложил:
— Давайте помогу.
— Еще не хватало. Дело не мужское...
— Ничего подобного, — говорю, — я даже соскучился по этому делу. На корабле каждые десять дней мыл, когда очередь подходила.
Анисья Степановна пожала плечами. Я принес из сеней кисточку собственного производства. Вилкой выковырнул из кипятка верхнюю тарелку, поставил ее на ребро и заработал кисточкой. Посуда была вымыта в пять минут, а в воду все еще нельзя было сунуть руку — кипяток. Теща осмотрела одну вымытую до скрипа тарелку и сказала:
— Дак ведь и протирать не надо... Век живи, век учись...
С того раза она пользовалась моим способом мытья, передала его всем соседкам, а способ в переулке стал называться «матросским».
Признаться, этой «рационализацией» заниматься меня заставило главным образом одно: скорее освободить стол. А коли посуда прибрана, теща уходит к соседям перекинуться в карты. Тогда я завладеваю кухонным столом, так как из комнаты меня выжила дочурка.
Старики возвращаются «с карт» поздно и сразу же укладываются спать здесь же: на кухне за печкой их кровать. Я продолжаю сидеть за столом. Вижу, теща с тестем ворочаются, им мешает свет от лампочки без абажура. Мне снова надо что-то «изобретать». На веревку, протянутую от печки к двери, набрасываю что-нибудь темное, отгораживаю свет.
Но вот старики, кажется, уснули. Теперь я учебные дела — побоку, можно поломать голову над стихами. Но вот странное дело, не могу сочинить и четверостишия, сидя за столом. Сказывается привычка: на корабле я писал стихи, лежа на диване в штурманской рубке. Вот и теперь меня манит лечь на живот. Бросаю на пол рабочую фуфайку тестя, на ноги надеваю его же валенки, ложусь головой к печной дверке, ногами к двери. Подо мной крышка подпола, сквозь фуфайку в живот вдавливается металлическое кольцо крышки. От порога тянет холодом. И все-таки это то, что надо. Приоткрываю дверцу печки, закуриваю, пускаю дым в печку с приоткрытой заслонкой трубы. Забываю о времени, исчеркиваю страницу за страницей в общей тетради (тоже флотская привычка — писать в общей тетради).
Потом чувствую: что-то отвлекает внимание. Это тесть в глубоком сне храпит. Вскоре присоединяет свою мелодию теща. От этого дружного и колоритного дуэта мое вдохновение вместе с папиросным дымом улетает в трубу. Я намеренно полугромко кашляю. Теща, лежащая с краю, просыпается, утирает ладошкой рот и говорит:
— Ой, никак, Андрей, я храпела?
— Да нет, ничего, — говорю. Анисья Степановна толкает старика в бок: «Не храпи, ламань». На короткое время устанавливается тишина, потом все повторяется. На ум приходят гомеровские Сирены, от которых Одиссей со спутниками спаслись, залив уши воском. Надергиваю из подклада фуфайки ваты, скатываю две затычки и вставляю в уши. Еще хуже: в голове шумит и звенит, как в пустой бочке.
В комнате захныкала Маринка. Слышу, поднялась Галка, переменила дочке постельку, вышла на кухню, шепчет:
— Хватит тебе, уже третий час...
Хватит так хватит. На сон осталось три часа.
Однажды за столом Анисья Степановна, загадочно переглянувшись со стариком, смущенно сказала мне:
— Может, это и не мое дело, Андрей... Вот ты по всей ночи чо-то пишешь... Скажи, чо это?
— Стихи, — говорю.
— А мы с дедом вчерась на комоде взяли твою тетрадь, посмотрели. Мы неграмотные, но там у тебя все, что напишешь, зачеркано.
— Нет, — говорю, — не все, там есть строчки и незачеркнутые.
В разговор вступил старик:
— Мотри, Андрей, кабы с головой у тебя чо не случилось. Это же умственна работа...
Старики снова понимающе и тревожно переглянулись. И я понял, что их беспокоит: как бы не рехнулся зять...
Когда в издательстве вышла небольшая книжка моих стихов, я получил гонорар и вручил солидную пачку денег Анисье Степановне. Она растерялась:
— Отколь столь денег?!
— А за те строчки, которые остались незачеркнутыми, — говорю.
— Да мне-то они на што? У вас своя семья.
— У нас одна семья, — отвечаю, — и вы хозяйка. Берите, берите.
— Сколь же здесь?
— Считайте. — Мне было и самому приятно удивить старую женщину. Она села на койку, положила деньги в подол и стала считать, беззвучно шевеля губами. Я незаметно наблюдал за ней. Старик, изобразив на лице полное равнодушие, просматривал свежий номер областной газеты. Теща, не досчитав деньги до конца, с какой-то гордостью и удивлением выговорила:
— Никак больше тыщи...
— Тысяча сто, — уточнил я.
Иван Иванович оборвал у отрывного календаря листок не глядя на меня, сказал:
— Так, может, Андрей, не надо бы столько зачеркивать... Лишние деньги, они не помешают...
Я расхохотался.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Бывая на заводских диспетчерских совещаниях, я каждый раз наблюдал одну и ту же невеселую картину.
— Иван Петрович, как дела с тракторными роликами? Неужели опять завалим? — спрашивали директор завода или начальник производства.