Вадим Кожевников - Знакомьтесь - Балуев!
— Это и есть наш Туркин. Сначала он в воронке лежал, потом дополз до впадины. Здесь у него ветки заготовлены, он их натыкал в петли маскхалата и стал вроде кустом. Сейчас он отдыхает. Отдохнет, доберется до окраины кустарника, сбросит ветки и по канаве — там высохшее русло ручья — заползет в ровик. Сидеть ему теперь там дотемна. Раз фашисты его приметили, долго не отпустят. Они его знают.
Наступили сумерки. Ноябрьский студеный ветер выдул из луж воду и оставил вместо нее пластины черного льда, хрустевшего под ногами.
Потом мы с Ворониным сидели в ротном блиндаже, глубоком, чистом, с белой березовой мебелью и стенами, обитыми клеенкой из немецких противоипритных пакетов. Горела крохотная автомобильная лампочка у потолка, а в печурке гудело пламя. Мы пили чай из жестяных кружек.
— Знаете, — сказал мне Воронин, — вот вы не поверите, а я так здорово сейчас в свою жену влюблен, что просто сказать невозможно. — И, словно смутившись от этого неожиданного заявления, Воронин стал старательно рыться в папке с боевыми донесениями, как будто ему там что–то понадобилось.
— Вы что, ее недавно видели?
— Какое там! — Воронин сунул папку под подушку и раздраженно сказал: — Вот в газетах у нас писали: какие замечательные люди в стране живут! А я только сейчас, на войне, понял, какие они все замечательные. И вообще я жил неправильно. Вот подождите, выгоним к чертовой матери гадов, я покажу, как надо жить. Чаю хотите?
Наливая мне в кружку кипяток, Воронин продолжал говорить тем же взволнованным тоном:
— Мне сорок лет, а меня недавно вместе с этим Туркиным в партию принимали. Вот история!
— Разве Туркин плохой человек?
— А разве я говорю — плохой? Он сейчас самую тяжелую боевую работу ведет. Надо участок в шесть тысяч мин к зиме подготовить. Из каждой лунки мину извлечь, поставить на колышки, обновить и проверить взрыватели. И все это под носом у врага, а главное — ночью.
— А зачем он сегодня днем по полю ползал?
— Да ведь ночью место, где мины зарыты, разве найдешь? Он днем вешки ставит, а ночью работает.
— Говорят, он первоклассный мастер?
— Ну, первоклассный… Выдающийся! Без миноискателя работает. Прямо зрячие пальцы имеет. — Воронин поднял растопыренные пальцы, пытаясь объяснить жестом, какие особенные руки у Туркина. — Ведь он раньше на скрипке играл, когда слепым был.
— Что значит — слепым был?
— Очень просто, с рождения. А потом ему операцию сделали.
— Почему же он раньше к врачам не обратился?
— Кто его знает. Может, не верил, не хотел зря мучиться… — И, задумчиво трогая крышку на чайнике, Воронин тихо проговорил: — Смешной он человек. До сих пор удивляется, когда незнакомые предметы увидит. Он ведь, кроме госпиталя и войны, ничего не видел. Сначала в ополчение пошел, телефонистом работал, другое ему делать было трудно. Он ходить по–настоящему не умел, все на что–нибудь натыкался.
— Как это страшно! Прозреть только для того, чтобы увидеть войну!
— Конечно, неприятно. Если бы пораньше операцию сделал, ему лучше было бы. Но знаете, что я вам скажу? Как он начнет с нашими бойцами говорить, чудно как–то получается, словно сказку какую красивую рассказывает. А в сущности, про обыкновенные вещи говорит. И на парадах мы бывали, и на курорты ездили. А у него и правда и вместе с тем черт знает как здорово получается. Интересный человек, восторженный. Недавно с ним снова несчастье произошло. Мина подорвалась. Подорвалась оттого, что по мине осколком стукнуло, когда Туркина немцы обстреливали. Ранило его, но не сильно. А вот от контузии снова слепота произошла. Он так и шел с поля напрямик. Голову поднял и шел, а в него стреляли. Что мы пережили — сказать невозможно. Прибежал я к нему в санбат, взял его за руку, а рука дрожит. Я говорю: «Как же теперь, Яша?» — «Никак, — сказал он. — Снова телефонистом буду».
А из–под повязки у него слезы текут.
Но ничего, выздоровел он. Только теперь очки велели носить. Но они ему не мешают.
Помолчав, Воронин сказал медленно и вовсе не для меня:
— А жена у меня очень хорошая, такая хорошая…
На следующий день я шагал по лесу к узлу связи.
За ночь выпал снег. Снег лежал покровом необыкновенной белизны. В чистоте, в свежести рождались редкие снежники и падали с мягким шорохом.
На бревнах, приготовленных для настила блиндажа, сидели бойцы и курили. Один боец стоял со склоненной головой и глядел на свою варежку. Он восторженно говорил:
— Глядите, ребята, маленькая, а до чего здорово сделана! Такая звездочка…
Голос этого человека, тон, каким он произносил слова, заставили меня остановиться. Повернувшись ко мне улыбающимся лицом, боец сбросил что–то невидимое с рукавицы и опустил руки по швам.
— Товарищ Туркин?
— Точно.
Я не знал, что сказать ему: растерялся от волнения и нежности к этому человеку. Не зная, как начать, я спросил:
— Ну как, нравится наша зима?
— Очень красивая, — сказал Туркин. — Вот уже второй раз вижу и все надивиться не могу.
— Обожди, Туркин, — пообещал кто–то из бойцов, — мы тебе еще такие штуки покажем — закачаешься. Ты, брат, ничего путного на нашей земле толком еще не видел.
А старшина Власенко, внушительно перебивая бойца, заявил:
— У нас Туркина на десять лет расписали. Его каждый погостить, похвастаться к себе зазвал. — И Власенко решительно объявил: — Но я его к себе заберу. После моих мест он ничего смотреть не захочет.
— А вы у нас в Сибири были?
— Я все знаю, — сказал Власенко и, увидев, что бойцы смеются, добавил уже мягче: — Я, конечно, тогда начальником над ним уже не буду. Пусть сам чего хочет выбирает. — И обиженно замолчал.
А Туркин, улыбаясь, ответил:
— Самое хорошее я уже сегодня видел.
— Это чего еще? — строго спросил Власенко.
— А вас, — живо сказал Туркин, — когда вы меня от немецких разведчиков отбивали. Как увидел вас с ручным пулеметом рядышком, сразу понял, что нет ничего лучшего на свете, да еще вовремя.
Все стали снова смеяться.
Я глядел на Туркина, на его живое лицо, на его глаза с еще не смытой печалью. И мне тоже очень захотелось после войны позвать Туркина с собой и показать ему свою любимую, холодную и очень сильную реку, такую необыкновенную и самую красивую на свете. А какой город стоит на этой реке! Хотя, в сущности, городишко, в котором я родился, мелкий, и, конечно, не из мрамора там здания. Но я увидел свою родину сейчас такой ослепительной, такой красивой. Да разве в мраморе тут дело! Разве не человек наш украшает землю, наш сказочный, необыкновенный человек!
1943
Клятва
Ее раздавили, узенькую, простую деревенскую дорогу.
Она раздалась вширь грязной полосой, иссеченной тысячами колес.
На обочинах торчат колья, на них поспешные надписи: «Объезд запрещен. Мины».
И все–таки многие сворачивают на обочину и идут мимо надписей, мимо обломков обезглавленного, с оторванным мотором, тягача на кривых колесах.
Что заставляет пренебрегать опасностью? Усталость, легкомыслие или нетерпение? Пожалуй, все вместе.
Саперы с миноискателями, похожие на рыбаков с сачками, бродят по полю и шарят в траве. Они кричат на бойцов. Бойцы молчат — боятся, как бы саперы снова не погнали на дорогу, где грязь липнет к истомленным ногам пудовыми комьями.
Слева от дороги груда кирпича, ямы, наполненные углем и пеплом.
На древесный бурьян похожи высохшие сады. Сухие, пыльные трупы деревьев с черными ветвями выглядят печально и сурово. Кажется, тысячи этих деревьев покончили с собой, чтобы ни аромата своего, ни красоты цветения, ни нежного тела своих плодов не отдать врагу.
Полоса немецких укреплений разбита снарядами.
Всюду валяются какие–то коробки, чехлы, футляры. Поперек канавы лежат, мостки для пешеходов, а канава узенькая.
Впереди окопов — рогатки, обмотанные спиралями колючей проволоки, бесконечными рядами уходят они к горизонту.
Белый, меловой свет луны освещает развалины.
Бойцы готовятся к ночлегу, короткому ночлегу после боя. С брезгливым отвращением обходят они тряпичный хлам, лежащий возле немецких землянок: женские шубы с оторванными меховыми воротниками, юбки вместо наволочек, набитые сеном.
Сержант Гуськов сидит у костра и зашивает прореху на шинели. Морщинистое, сухое лицо его с густыми бровями скорбно–озабоченно.
— Миной? — спрашивает Толкушин.
— Нет, так зацепился.
— А мне прямо в ноги плюхнулась, — возбужденно сказал Толкушин. — Все железо через голову переплюнуло и не задело. Вот счастье! — И засмеялся.
Воткнув иголку в подкладку пилотки, Гуськов поднял лицо и тихо спросил:
— Сказывали, на тебя двое навалились?
— Один, — обрадованно пояснил Толкушин. — Второго мы вместе с Кузиным приняли. Если считать, так вроде полфашиста. — И радостно добавил: — У меня перед ребятами совесть чистая.
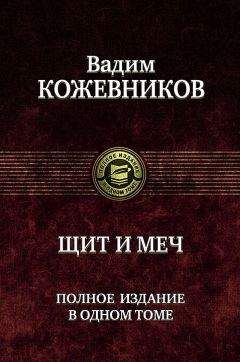
![Вадим Кожевников - Разведчики [антология]](/uploads/posts/books/24346/24346.jpg)

