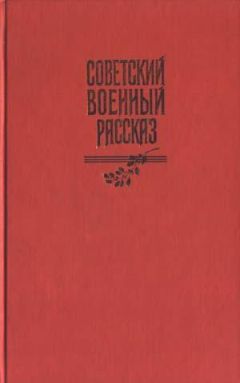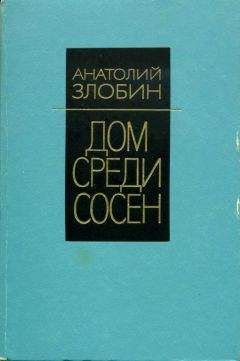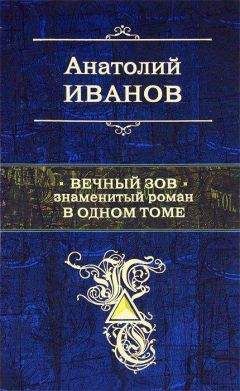Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
— И Ружейников, значит, погиб?
— Нет, — сказал Иван, голос его вдруг захлебнулся. Проглотив комок слюны, продолжал: — Как он уцелел — прямо ошарашило меня. Я возле Сёмки сижу, чую — кто-то в стороне маячит сквозь не осевший ещё дым и пыль. Гляжу — там, где пушка стояла, поднялась растопыренная, страшная, обгорелая фигура, двигается ко мне, как… Ей-богу, как леший какой сквозь болотный туман идёт… Подошёл, сел, на Сёмку глянул. «Вот тебе и сосенки-ёлочки», — говорит. И он весь в крови, и Сёмка, и у меня по щеке течёт с головы… Счас Ружейников в санбате лежит, утром я был у него. Улыбается. «Мне, говорит, дырки залепят и новую батарею дадут. Давай ко мне в батарею, командиром орудия назначу…»
— Да-а! — только и сказал Алейников.
Потом в воздухе долго стояла тишина. С опушки, где стояли танки, доносились приглушённые листвой голоса, кто-то заразительно хохотал, и слышались удары молотка о железо. Но все эти звуки не нарушали глухого и тяжкого безмолвия, повисшего над Алейниковым и Савельевым Иваном.
— Ну и сушь стоит! — проговорил наконец Иван. — Хоть бы маленько дождик брызнул, воздух прочистил… Зачем же мы тебе с Сёмкой понадобились-то?
Алейников приподнял голову на онемевшей шее, потёр пальцами по привычке шрам на щеке. Потом медленно повернулся к Ивану, оглядел его так, будто видел впервые. Иван даже сказал невольно:
— Чего это ты ещё?!
— Зачем? — переспросил Алейников. — Посмотреть на вас да сравнить…
— Чего? С чем?
Уголки рта Алейникова шевельнулись, в выражении лица проступило что-то жёсткое, беспощадное.
— Тебя — с братом твоим Фёдором. А сына — с отцом, значит.
— Как это сравнить? — проговорил Иван, ни о чём не догадываясь, ещё ничего не зная. — Он, Федька, из дома на фронт был взятый прошлой зимой. Погоди, неужели он… тоже здесь?!
— Нет, не здесь. Но и недалеко. Он у немцев карателем служит.
Ещё не замолкли эти слова, а Иван, будто подкинутый страшной силой, вскочил, попятился от Алейникова, хватаясь, чтоб не упасть, за вершинки и ветки молодых берёзок, ломая и обрывая их. Его щёки, только что очищенные от многодневной щетины, рыхло дёргались, глаза делались всё больше.
Наконец верхушки каких-то двух молоденьких, всего на метр от земли, берёзок, за которые Иван ухватился, не оборвались, выдержали, и он остановился.
— Ты… Да ты… чего?! — вытолкнул он одеревенелым языком несколько звуков. Слова были тихими, бессильными, лишь глаза Ивана кричали дико и протестующе. — Фёдор? Федька?!
— Ага, Фёдор.
Иван постоял, качаясь, будто и в самом деле был пьян, всё держась обеими руками за верхушки берёзок. Потом отпустил их, пошёл, как слепой, вперёд. Очутившись возле Алейникова, немного ещё постоял безмолвно, как столб.
— Врёшь… врёшь ты?! — хрипло, без голоса, произнёс он.
Алейников на это ничего не ответил.
Ноги Ивана больше не держали, подломились, он сел почти на прежнее место, стиснул голову руками.
Так, скрючившись, выгнув обтянутую белёсой, только что выстиранной гимнастёркой спину, Иван посидел минуты две. По-прежнему доносились с опушки голоса танкистов, резкий стук кувалды об железо… Потом где-то над головами, в расплавленной солнцем вышине, свободной здесь от дыма и гари, зазвенел, запел жаворонок.
Иван не слышал ни человеческих голосов, ни металлического лязга, но переливчатая, негромкая птичья песня разрезала застывшее сознание, он оторвал прилипшие к голове ладони, поглядел сперва вверх, потом на Алейникова. И Яков, ждавший этого взгляда, всё равно поразился той перемене, которая за эти короткие минуты произошла с Иваном. Лицо его, серое и бескровное, будто усохло, сразу похудело, глаза куда-то провалились, в них не было теперь ни боли, ни страха, ни изумления — ничего живого.
— Так… — промолвил он посиневшими губами. — Так он, видно, и должен был… кончить, Федька-то… Слава богу, что Сёмка…
Трясущимися руками он опять вынул кисет, от сложенной в маленькую гармошку газеты оторвал клочок и, просыпая на колени махорку, стал вертеть самокрутку, но бумага порвалась. Яков достал пачку «Беломора», молча протянул ему, но Иван только махнул рукой, оторвал ещё полоску газеты.
— Ах, Яков, Яков… — произнёс он с тоской и болью, вздохнув. И с этим вздохом будто вогнал внутрь себя остатки сомнений в происшедшем с Фёдором, растерянности и изумления, вызванных сообщением Алейникова. Пальцы рук его перестали дрожать. — Получаются куролесы в жизни-то людской. Всё криво, криво, а потом и вовсе в сторону. Как же так, а, Яков Николаевич?
Алейников попыхал папиросой, окурок щелчком отбросил в траву.
— Получаются, — сказал он угрюмо. Глядя куда-то вбок, усмехнулся и продолжал вяло и не очень понятно: — Человек, он вообще… Пока учится ходить, шатает его с одного бока на другой. А научился — и пошёл, пошёл, верно, в сторону. Каждый в свою. А куда? Правильный ли путь-то взял?
— Это ты мою жизнь имеешь в виду?
— Да хоть твою, — проговорил Алейников. — Хоть мою, хоть брата твоего Фёдора. Любого человека.
Голоса людей на опушке затихли, и металлический стук прекратился. Только в выжженном, обесцвеченном солнцем июльском небе где-то по-прежнему звенели жаворонки, теперь не один, а несколько. Иван слушал их, глядел то в одну сторону высокого неба, то в другую. Птиц он отыскать там не мог, а губы его временами оживали, и в глазах появились странные отсветы.
— Скоро я, может быть, с Фёдором, братом твоим, и повстречаюсь. Послезавтра я с группой ухожу к немцам в тыл, под деревню Шестоково, — резко произнёс Алейников. — Там одна немецкая разведорганизация окопалась. Приказано её немного пощупать… Там же, в Шестокове, и Фёдор у немцев служит.
Алейников глядел прямо в лицо Ивану. Тот лица не отводил, только светлые точки в его глазах дрогнули и исчезли да кожа на скулах сильно натянулась.
— Ты… для этого… чтоб сообщить всё это, и разыскивал… нас с Сёмкой?
— Да. И для этого, — сухо ответил Алейников.
Иван ничего не выражающими глазами скользнул по гладкому подбородку Алейникова, по его груди, на которой, как и у самого Ивана, не было ни орденов, ни медалей, по его рукам с сильными, жёсткими пальцами, в которых он вертел спичечный коробок. Задержал взгляд на этом коробке и отвернулся.
Откуда-то из-за кустов появился Гриша Ерёменко. Он ничего не спросил, ничего не сказал, бросил только взгляд на Алейникова, подобрал с травы ложки, взял котелок с остатками каши, фляжку, хлеб, недоеденную тушёнку и исчез так же безмолвно, как и появился.
— Слава богу, что Семёна убило… — проговорил Иван наконец. — Если убило…
— Как?! — мгновенно воскликнул Алейников. — Как это… если убило?!
— Погиб он, конечно… Я же сам видел. Только не пойму, куда тело делось. Я после боя всю высоту облазил. Ещё до того, как убитых хоронить начали. Нету его, не нашёл.
— Куда ж он делся?
— Не знаю. Я всё обыскал.
— Да ты что голову мне морочишь?! — воскликнул Алейников.
— Не морочу я! — вскипел и Савельев. Но тут же остыл, принялся, как и раньше, не спеша рассказывать: — Оно как всё было там у нас после того, как танк этот орудие наше раздавил? Ружейникова тоже взрывом отбросило от пушки, этим и спасся. Плечо ему осколками ободрало только. Подошёл он, значит, ко мне, сел, на Сёмку глядит… Помню, спросил, сколько ж ему лет. Я сказал. И говорю: «Давай плечо тебе чем-нибудь перевяжу». — «Погоди, отвечает, с плечом. Смотри-ка!» Это, значит, возле речки снова бой закипел, стрельба заревела. Мы кинулись к своему окопу. Глядим — немцы сыпят от реки. Сбили их, значит, штрафники, погнали. «Ага, сосенки-ёлочки!» — засверкал глазами Ружейников. А сам диск в автомат вбивает. Потом гранаты стал по карманам рассовывать. И мне: «Бери остальные, чего головой вертишь, как дурак?!» А я верчу потому, что вижу — из-за дымов, что на западе распластались, кучи немцев бегут. И опять в сторону нашей высоты. Земля в ту сторону ровная, как стол, кой-где только овражками изрезана. Километра на два вдаль, до самых дымов, всё видно. «Гляди, — закричал я, — и оттуда немцы отступают!» — «Где? — прохрипел Ружейников. — А-а, сволочи! Так тем более айда! Давай!» Махнул мне автоматом, переметнулся через бруствер. Я за ним, значит…
Алейников сидел неподвижно, грустновато глядел куда-то перед собой. Казалось, он вовсе не слушает Ивана, а размышляет о чём-то, думает какую-то свою давнюю и нелёгкую думу.
Однако едва Иван примолк, тотчас поднял на него уставшие, колючие глаза:
— Ну?
— Немцы от реки тоже своих, видать, заметили. Отстреливаясь, в ту сторону и попятились. А нам с высотки их с автоматов не достать. Ружейников и решился навстречу им, с тыла. Я, признаюсь тебе… «Сомнут же нас немцы, сами лезем под их сапоги!» — заколотилось у меня в мозгу. Чего мы им, двое-то?! Испугался я, признаюсь, в этот момент. Как будто раньше всё и ничего было, а тут холодным лезвием голову разрезало…