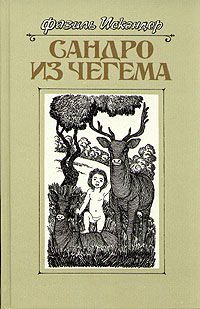Фазиль Искандер - Сандро из Чегема. Книга 1
– Триста? – спрашиваю.
– Да, – бурчит, – триста.
– Правильно, – говорю, – такса за провоз бесфактурных нейлоновых кофточек из Эндурска до Мухуса. Теперь езжайте и рассказывайте в Эндурске, как вы посмеялись над Тенгизом дохрущевской трешкой.
Молчат. Коротышка сопит. Съел бы меня, чувствую, да боится пулей подавиться. Сели в машину и, пока не уехали, все время под прицелом держал, потому что этот коротышка – первый аферист Эндурска.
С этими словами он вынул пачку десяток из кармана и пересчитал.
– В самом деле триста? – спросил я.
– Да, но не в этом дело, – сказал он, укладывая деньги в бумажник и пряча бумажник в карман кителя.
– А в чем? – спросил я.
– Ты представляешь, как он мог опозорить меня! – воскликнул Тенгиз и, прикусив губу, покачал головой. – Ну, теперь пусть рассказывает, кто кого опозорил.
– Неужели выстрелил бы, если бы не остановились? – спросил я.
– А разве иначе этот аферист остановился бы? – сказал он, надевая перчатки и включая мотор.
– Но ведь тебя за это посадили бы!
– Конечно, – согласился он, и уже громко, чтобы перекричать мотор: – Когда человеку задевают честь – человек идет на все!.. Садись, поехали!
Я сел в коляску.
– Опозорить хотел, негодяй! – снова вспомнил он, разворачиваясь.
Мы поехали. Через некоторое время Тенгиз что-то мне крикнул и кивнул на дорогу, сбавляя скорость. Я увидел на шоссе темный след от шин резко затормозившей машины. След уходил вправо, как будто машину занесло. Он снова дал газ, оставляя позади место своего поединка с эндурским шофером.
– Опозорить! – донеслось до меня сквозь шум мотора, и я увидел, как вздрогнула его спина. Так вздрагивают от чувства омерзения люди, вспоминающие, каким чудом им удалось избежать нравственного падения.
Он благополучно довез меня до поворота в село Атары, а сам поехал дальше. Мне показалось, что он уже успокоился. Во всяком случае, поза его на мотоцикле выражала обычную для него ленивую расслабленность.
Легко догадаться, что с тех пор я не слишком стремился к мотоциклетным прогулкам с Тенгизом.
…Примерно через год я узнал, что его сняли с работы. Как-то встретил его на улице.
– Уже знаешь? – спросил он, заглядывая мне в глаза.
– Слыхал, – сказал я.
– Что думаешь?
– Сам знаешь, – говорю, – можешь считать, что легко отделался.
– Все это ерунда, – досадливо отмахнулся он, – не в этом дело.
– А в чем?
– Интриги, – сказал он многозначительно, – место у меня хорошее, многие завидуют… Но я это так не оставлю, в ЦК буду жаловаться..
Пока мы говорили, он поглядывал на дорогу в ожидании, как можно было понять, подходящей машины. Наконец он поднял руку, и возле нас остановилась частная «Волга». Видимо, магию власти он еще не утратил.
– Подбросишь до Каштака, – сказал он владельцу машины. Тот с мрачной покорностью кивнул головой.
– Интриги, – повторил он еще раз, усевшись рядом с водителем я кивнув головой, как бы намекая на могущественную корпорацию, которая собирается его уничтожить, но с которой он намерен бороться и бороться.
И видно, боролся, и борьба была нелегкая. Во всяком случае, корпорация сначала взяла верх. Через несколько месяцев я его увидел за рулем такси возле базара. Он сидел, откинувшись на сиденье, с ленивой снисходительностью ожидая, пока усядутся сзади несколько крикливых женщин с сумками, одна из которых, высунув руку из окна, держала за ножки щебечущий букет цыплят.
Всей своей позой, выражающей снисходительное равнодушие к настоящему, он мне почему-то напомнил (так мне представилось) монархического эмигранта, вынужденного в чужой стране заниматься унизительным делом, но верящего в свою правоту и ждущего своего часа.
В отличие от монархических эмигрантов Тенгиз его дождался. Еще через полгода он был возвращен, правда в качестве простого инспектора, на ту же дорогу. Возможно, понадобился его опыт.
Дело в том, что в это время среди мирных подпольных фабрик Эндурска появилась сверхподпольная трикотажная фабрика, выпускающая изделия из «джерси» и работающая на японских станках, что было установлено, к сожалению, только по образцам конечной продукции экспертами Мухуса, Сочи, Краснодара и других городов страны.
Раздраженные успехами новой фабрики, старые фабриканты Эндурска, по иронии истории, отмеченной еще Марксом, вошли в классово чуждый контакт с органами ОБХСС с тем, чтобы помочь им найти и разорить своих удачливых конкурентов.
Но это оказалось не так просто. Борьба длилась несколько лет, и новое, кстати, так и не выходя из подполья, победило старое. Держатели акций «джерси», несмотря на японские станки, в этой схватке применили старинный слободской прием. В один прекрасный день в Эндурске сгорел подпольный склад с огромным запасом временно законсервированных нейлоновых кофточек.
И опять, теперь, правда, в обратную сторону, сработала ирония истории. Советским пожарникам (а эндурских пожарников смело можно назвать советскими) пришлось гасить этот классово чуждый пожар.
Оказалось, что дом, в котором находился склад, раньше принадлежал грузинскому еврею Давиду Аракишвили, который уехал в Израиль, подарив свой дом, как выяснилось после пожара, своему фиктивному племяннику. Изощренность этого сионистского издевательства Давида Аракишвили состояла в том, что, оставляя дом на имя несуществующего племянника, он в то же время всех своих существующих племянников забрал с собой.
Спрашивается, зачем паспорт, зачем прописка, зачем домовая книжка, если в Эндурске целый дом можно продать подпольным фабрикантам под видом меланхолического подарка остающемуся племяннику от разочарованного в возможностях социализма дяди?!
Но, как говорится, нет худа без добра. С этих пор лекторы Эндурска и Мухуса с немалым успехом используют эту историю, как наглядный пример, подтверждающий тезис о хищническом характере частнособственнического развития, что неоднократно отмечалось в лучших классических работах как Маркса, так и Энгельса.
Глава 11
Тали – чудо Чегема
В этот незабываемой летний день шло соревнование между низальщицами табака двух табаководческих бригад села Чегем. Соперницы, одна из них – пятнадцатилетняя дочь дяди Сандро Тали, или Талико, или Таликошка, другая – девятнадцатилетняя внучка охотника Тендела, Цица, разыгрывали между собой первый чегемский патефон с полным набором пластинок «Доклад тов. Сталина И. В. на Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года о проекте Конституции СССР».
Кто не видел Тали, тот многое потерял в жизни, а кто видел ее и сумел разглядеть, тот потерял все, потому что в его душе навсегда застревала влажная тень ее образа, и, бывало, через множество лет, человек, вспоминая ее, вдруг вздыхал с какой-то горькой благодарностью судьбе.
В пятнадцать лет она была длинноруким и длинноногим подростком с детской шеей, с темно-золотистыми глазами, с каштановым пушком бровей, с густой челкой на аккуратной головке, то и дело шлепавшей ее по лбу, когда она бежала.
И только необыкновенная по своей законченности линия подбородка, лунная линия, намекала на небесный замысел ее облика и в то же время вызывала немедленное и вполне земное желание прикоснуться к этому подбородку, попробовать его на ощупь: такой ли он гладкий и законченный, как это кажется со стороны?
Но мало ли миловидных и даже просто красивых девушек было в Чегеме! Чем же она выделялась среди них?
Лицо ее дышало – вот чем она отличалась ото всех! Дышали глаза, вспыхивая, как вспыхивает дно родничка, выталкивая струйки золотистых песчинок, томно дышали подглазья, дышала шея так, что частоту биения пульсирующей жилки можно было подсчитать за пять шагов от нее. Дышал ее большой свежий рот, вернее, дышали углы губ, не то чтобы скрывающие тайну ее чудной улыбки, но как бы неустанно подготавливающие эту улыбку задолго до того, как губы ее распахнутся. Казалось, углы губ ее пробуют и пробуют окружающий воздух, вытягивая из него какое-то солнечное вещество, чтобы благодарным сиянием улыбки ответить на сияние дня, шум жизни.
Со временем понадобилась целая гора безмерной подлости и жестокости, чтобы наконец залепить углы ее губ в тревожной неподвижности, но и тогда вдруг прорывалась ее прежняя, нет, почти прежняя улыбка, и тем, кто знал ее в пору отрочества, хотелось кусать пальцы от боли при виде этой улыбки или свернуть шею самой судьбе за то, что она допустила все это.
Но тогда до всего этого было еще далеко.
Чуть ли не с самого рождения девочка была отмечена знаком, а точнее, даже знаками небесной благодати.
Однажды, когда ей было четыре или пять месяцев, мать, держа ее одной рукой, другой стягивала белье с веревки, протянутой вдоль веранды. Неожиданно девочка вскинула ручонки в сторону яблоневых ветвей, нависавших над верандой, и стала кричать: