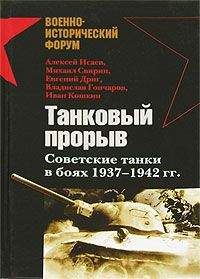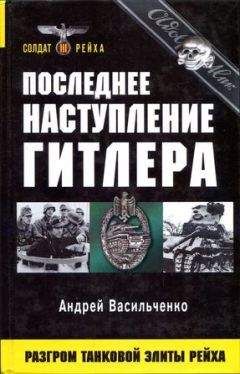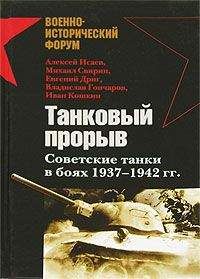Илья Дворкин - Взрыв
И вдруг обнаружил, что женщина светловолоса и сероглаза. Ее нельзя было назвать красавицей. Лицо очерчено мягко и неопределенно, но что-то в нем неуловимое — то, что милее иной красоты.
Вряд ли Иван Сомов подумал об этом так четко — он просто ощутил это, почувствовал. И еще он обнаружил, что стоит рядом с этим существом, одетым в стерильное, бело-хрустящее, совершенно голый, если не считать узких плавок, с ногами в темной пыли по лодыжки. И покраснел так, как умеют краснеть только смертельно смущенные блондины — лицом, шеей, даже грудью.
И женщина, очевидно, сообразила, что с ним творится. И неожиданно для Ивана покраснела сама.
Они стояли друг против друга, отводили в сторону глаза, и врач хмурилась все больше.
— Ну вот что, молодой человек, — решительно сказала она, — от таких ран, как ваши, не помирают. Когда будете умываться — старайтесь не замочить пластырь. Через день зайдете снова, проверим ваши боевые рубцы.
Иван попытался улыбнуться и тут же болезненно скривился.
— Улыбаться не надо, могут разойтись скрепки.
Врач отошла к шкафчику с медикаментами, стала там что-то переставлять.
Иван потихоньку вышел.
— Ну, пойду за обещанной мензуркой, — заявил Петька и скрылся в кабинете врача.
— Что, гнетет сухой закон? — насмешливо спросили его.
— Ох, гнетет, доктор, это вы прям-таки в душе читаете. Вы случаем не телепат?
Врач засмеялась:
— Да уж! Надо тут быть телепатом! Достаточно поглядеть, как у некоторых шевелятся носы...
Она налила спирт в коническую мензурку толстого зеленого стекла.
— Получайте свою награду, герой, и радуйтесь моей минутной слабости.
— Обожаю женские слабости, — пробормотал Петька и торопливо проглотил жестко-огненную жидкость.
— А вы действительно спасли вашего товарища?
— Что вы, доктор, это было как в кино! Потрясающе! Простите, как вас зовут?
— Светлана Владимировна.
— Света, выходит. Так вот, Света, он — Ванька, значит, Сомов — плавает, извиняюсь, как утюг. Парень он очень хороший. Но — как утюг! А я чемпион. Я старый водолаз-подводник. Я, значит, за ним — мырь! Что вы! Кино! Прямо из ее страшной пасти вырвал.
— Из чьей пасти? — изумилась Светлана Владимировна.
— Как из чьей? Из щучьей! Он на нее с острогой! А она — как крокодил! Цап! Я ее отравленным кинжалом — раз! Хватаю его, Ваньку, значит, Сомова, и плыву быстрей миноносца к берегу. А он, бедняга, уже неживой! Да-а, хороший был парень Ванька...
— То есть как? Как неживой? А это кто был? Сейчас, с вами?
— Да Ванька же! Это он потом уже ожил. А сперва — вынимаю его из кошмарной пасти, а он шепчет: «Кинь меня здесь, Петька Ленинградский, спасайся! Твоя, говорит, жизнь нужнее для нашей социалистической родины». Такие переживания, доктор, такие переживания! Ну что для таких неслыханных переживаний одна маленькая мензурка?! Тут трех и то мало, ей-богу!
— Да-а, Петр Ленинградский, — проговорила Светлана Владимировна, — вам бы фантастические романы писать! Просто талант пропадает.
— Во-во! Я и говорю, надо поддержать молодое литературное дарование! — закричал Петька и протянул мензурку.
И такая у него была умильная рожа, что врач не выдержала.
И Петька хлопнул вторую мензурку.
* * *— Приготовьтесь, ребята! Одна минута! Приготовьтесь! — сказал Шугин.
— Чего уж тут готовиться! — Петька хмыкнул. — Лежи и не кукуй!
— Как ты там, Женька?
— Мне-то что, — прошелестел Женька. — Как вы, ребята?
— В норме мы. Скоро шарахнет, — отозвался Шугин.
— Уж это точно — шарахнет. Тут хоть земля провались, а Фома шарахнет вовремя — приучили небось в армии-то, — сказал Петька.
— Тебя бы тоже как миленького приучили, — сказал Иван. — Нет на тебя, Петька, хорошего сержанта-сверхсрочника — по струнке бы ходил.
— Ну уж это извините! Не знаете вы, гражданин Сомов, Петра Ленинградского. Он свободный художник, он как вольная птица беркут.
— Как же, как же, известно! Ленинградский — он на все руки, он и беркут, и старый водолаз, и чемпион по плаванию. — Иван тихо засмеялся. — Ба-альшой ты человек, Петька!
«Лучше уж так, — думал Шугин, — чем ждать молча. Пусть даже так — судорожно, дрожащими голосами...»
Пульсировала, вздрагивала секундная стрелка. Казалось, она с трудом отщипывает малые дольки времени от этой бесконечной минуты.
Трое часто, надсадно дышали — воздух поступал очень скупо, только сейчас они по-настоящему ощутили это. А четвертый, Женька Кудрявцев, лежал, влипнув спиной в холодный камень, и было ему нестерпимо стыдно за то, что волею случая он оказался в самом безопасном месте и вроде бы отдалился от товарищей своих, вроде бы словчил, устроился лучше других. Он чуть не плакал.
Некоторое время все молчали, пытались отдышаться.
— Женька, ты живой? Чего притих? — прервал тишину Шугин.
— Живой, — отозвался Женька.
— Ну и слава богу. Ты там не переживай, все обойдется. Воздуху хватает?
— Хватает.
— Вот и дыши помаленьку. Недолго уже осталось ждать, перетерпим.
Глава десятая
ИВАН, ПЕТЬКА И ДОКТОР СВЕТЛАНА
Во уже неделю бригада Шугина и волонтер Тимофей Михалыч Милашин работали в полную силу.
Шугин решил сделать пробный взрыв, снести крутобокий бугор, торчащий в самом центре строительной площадки главного корпуса.
Как было уже сказано выше, ему ни разу еще не приходилось работать с монолитным гранитом, и он хотел проверить свои расчеты, поглядеть, как поведет себя взрывчатка в этом розовом крепчайшем камне. Впрочем, однажды на вскрытии железорудного карьера ему встретился гранитный участок. Но то был совсем другой гранит, так называемый «рапак», «рапакиви» — «гнилой камень», если перевести на русский язык это финское слово. Гранит тот был слоистый, с прожилками слюды и шпата, он легко крошился даже под простым отбойным молотком.
А теперь... Только и было общего между тем и этим гранитом — само слово «гранит». Расчеты расчетами, а Шугин хотел на практике поглядеть, как сработает взрыв, Шпуры бурили по окружности с небольшим уклоном к центру. Фома Костюк в котелке расплавил тол, разлил его в бумажные стаканы, предварительно сунув их в просушенный песок, — чтобы не теряли форму и не обугливались.
— На кой ляд нам аммонит портить! — сказал он Шугину. — Он еще пригодится. На один тот выступ нависший, на эту каменюку на площадке под хозпостройки сколько пойдет — неизвестно. А пересчитать с тола на аммонит тебе пара пустых!
И Шугин согласился с ним.
Все островитяне были в курсе дела, всем было интересно, что получится у взрывников. Слишком любопытных и назойливых приходилось отгонять. Этим занимались Петька и Милашин. Предупредили и пограничников, чтобы зря не тревожились.
И рванули.
И Шугин увидел, что недооценил крепость камня. Истинная отметка площадки получилась на восемь сантиметров выше, чем он предполагал. Приходилось все заново пересчитывать. Дел у него было по горло. А бригада пока отдыхала. Женька искал Ивана, чтобы удрать с ним в лес, пока передышка в работе, пока бригадир делал новые расчеты.
Но Иван был занят. Он все свое свободное время бродил около санатория.
Ивана беспокоило, что царапины его заживали катастрофически быстро, собственно говоря уже зажили, и это наводило на него тоску и уныние. Потому что, когда они совсем заживут, предлога увидеть доктора Свету не станет. А он не мог не видеть ее хотя бы разочек в день, хотя бы издали. А когда видел, то молчал, «как засватанный», по выражению Петьки Ленинградского. И она тоже молчала. И тоже краснела. И так они оба молчали и краснели, и не было, пожалуй, на острове ни одного человека, кроме самих Ивана и Светы, которые не понимали бы, что происходит, вернее, уже произошло между ними.
Наконец Петьке надоело смотреть на «этот театр драмы», и он взял да и пригласил их обоих прокатиться на лодке вокруг острова.
Это была странная прогулка. Двое молчали, а один трещал без умолку. Петька изощрялся в остроумии, сам хохотал до колик над собственными шутками, а Света только слабо и как-то задумчиво улыбалась.
Иван же сосредоточенно греб и хоть бы слово сказал. Он был хмур и напряжен. Он думал о том, что просто не сможет жить без этой женщины, и терзался от своей безъязыкости и в то же время боялся слов. Потому что, если заговорить, придется рассказать про Тому, про все, что было в его жизни с ней, про свои унижения и глупость свою. Но он знал, что рано или поздно обо всем этом придется говорить, и тогда пусть уж разговор этот произойдет пораньше.
Но Иван трусил, отчаянно трусил. Никогда в жизни он так не трусил.
А напряжение в лодке возрастало и тяготило Петьку. Он болтал все неувереннее и неувереннее и уже не смеялся своим остротам.
Иван со страхом думал о том, что вот сейчас, скоро Петька выдохнется, замолчит, и что же тогда делать, потому что сидеть и молчать было совсем уж глупо.