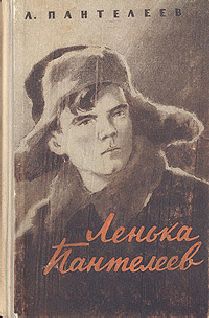Л. Пантелеев - Том 1. Ленька Пантелеев. Первые рассказы
– Очень даже хорошее.
Потом говорит:
– Так, как же, брат, сплясать тебе?
– Нет, – говорит Коська. – Не надо. Ведь я пошутил это.
– А то я могу. Пожалуйста. Я даже вприсядку могу, если желаешь.
Еще немного времени прошло. Как-то – под самый Новый год дело было – доклеивал Коська остатки афиш.
Вечерело, снег падал.
Бегал Коська от столба к столбу, ведерком размахивал, торопился. Завтра праздник, надо печку истопить, в комнате прибраться да в лавку еще за керосином сбегать.
Только приклеил Коська последнюю афишку, слышит, сзади кто-то подошел и через плечо его афишку читает:
– В чет-верг пер-во-го ян-ва-ря гранди-оз-ный бал-мас-карад.
Голос тоненький такой – как у птички.
Обернулся Коська и обомлел.
Стоит перед ним девчонка, однолетка его или чуть побольше. У девчонки нос кверху вздернут. Глаз левый прищурен – смеется, что ли?
Точь-в-точь портрет, что украл когда-то Коська на вокзале и продал за три рубля бородатому дяде Косте. Портрет и сейчас над дяди Костиной койкой висит. Только у этой девчонки галстук из-под заячьей шубейки выглядывает красный, а не черный, и глаза голубые и щеки румяные, а не серые, как на том портрете.
Стоит Коська и глазами моргает.
«Что, – думает, – за чертовщинка?»
А девчонка тоже смотрит на него и улыбается.
– Холодно? – спрашивает.
– Нет, – говорит Коська. – Не очень холодно.
А сам думает: на кого же это она похожа? На Сашу? Нет, пожалуй, на Сашу не очень похожа. Только что глаза веселые.
– Клей у тебя течет, – говорит девчонка.
Поглядел Коська – и правда, клейстер на валенок ему течет. Загляделся он и ведерко опрокинул.
– Фу! – говорит.
А девчонке смешно.
– Что ты, – говорит, – чумовой какой!
Коська нагнулся, снегом валенок почистил, девчонка ему помогла, ведерко подержала.
Взял у нее Коська ведерко.
– Спасибо, – говорит и побежал в контору. Некогда. Надо еще в лавку за керосином сбегать. А сам все думает: «Что же это? Неужто она самая?»
И что-то ему скучно стало. И за керосином неохота бежать.
В контору пришел, ему говорят:
– Ты что, Константин Михайлов, заболел, что ли?
– Нет, – говорит Коська, – я здоровый.
– А что ж это у тебя такая наружность, как будто ты гриппом хвораешь? А ну, получи зарплату и беги домой. С Новым годом тебя!
А Коська деньги сосчитал и думает: «Плохой у меня, кажется, Новый год будет».
Пришел домой, думал, дяди Кости еще нет. А он дома. В комнате с кем-то сидит разговаривает. Коська дверью неосторожно с размаху хлопнул, дядя Костя услышал, кричит:
– Костя, это ты?
– Я.
– А ну, поди сюда.
Вошел Коська в комнату и сразу увидел: сидит на его ящиках давешняя девчонка. Шапку она сняла, шубейку сняла, в одном сером свитере сидит. Веселая такая, смеется, ногами болтает.
А Коське не смешно. Стал Коська у порога, шапку снял.
Дядя Костя говорит:
– Вот это, Наташа, он самый и есть, о котором я тебе писал и рассказывал. Знакомься, Костя. Это моя дочь Наташа.
А девчонка ногами болтает, смеется и говорит:
– Ха! Да мы уже знакомы.
– Как так? Где вы успели?
– Представь себе, успели.
Коська голову чуть-чуть поднял, на Наташу взглянул, потом на портрет посмотрел: «Так и есть. Она самая».
Вздохнул Коська. Шапку в руках потискал и говорит:
– Так я пойду, дядя Костя.
– Куда пойдешь? За керосином? Успеешь.
– Нет… я вообще…
– Куда это вообще?
– Одним словом… я ведь теперь у вас лишний буду.
Рассердился дядя Костя. Никогда его таким Коська не видел. Как начнет ходить по комнате. Как начнет кричать.
– Ты что же это, – говорит, – свою сестренку хочешь бросить?! И не стыдно тебе? Она из Питера ехала, думала, у нее братишка есть, а он – вон он какой!
Стоит Коська, с ноги на ногу переминается, в руках шапку тискает, не знает, что и сказать. Только губами чего-то шепчет.
А Наташа с ящика соскочила, к нему подошла, говорит:
– Дай руку!
Дал Коська руку.
– В сестры меня возьмешь?
Засмеялся Коська. Носом зашмыгал. Засопел.
– Я-то, – говорит, – возьму. Пожалуйста. А ты меня в браты возьмешь?
– Возьму.
– Ну, и кончено, – говорит дядя Костя. – А теперь айда – вместе за керосином!..
Оделись ребята, побежали в лавку за керосином. До угла добежали, Коська и говорит:
– Погоди, Наташа, мне тебе одну вещь надо сказать.
– Какую? Ну, говори.
Покраснел Коська.
– Вот чего, – говорит. – Ты это… ты, брат, прости меня, знаешь, что украл я тебя давеча из корзинки…
Не поняла Наташа: из какой корзинки? Почему украл? Удивилась. Засмеялась.
– А ведь и верно, – говорит, – ты – чумовой!..
Часы*
С Петькой Валетом случай вышел.
Гулял Петька раз по базару и разные мысли думал. И было Петьке обидно и грустно: есть хотелось и не было денег даже колбасных обрезков купить.
И негде было достать.
А есть хотелось ужасно.
Попробовал Петька гирю украсть. Но гирю украсть ему не позволили. Гирей стукнули Петьку слегка по затылку.
Пошел Петька дальше.
Попробовал кадку украсть. И с кадкой попался. Кадку оставил и дальше пошел.
И вдруг видит бабу. Толстая баба стоит на углу и торгует пампушками. И пампушки в ее решете – румяные, пышные, дым от пампушек идет.
Задрожал Петька и подошел ближе. И ничего особенного не сделал, только взял пампушку, понюхал и положил в карман. И даже обидного ничего не сказал той бабе, а повернулся и тихо, спокойно пошел прочь.
А баба за ним. Баба шуметь стала и хвататься за Петькины плечи. Баба кричать стала:
– Вор! Отдай пампушку!
– Какую пампушку? – спросил Петька и дальше пошел.
Но тут уж толпа поднаперла. Кто-то Петьку за глотку схватил, кто-то коленкой сзади ударил, повалили, намяли бока. И огромной толпой потащили Петюшку в милицию. В базарный пикет.
Притащили – к начальнику:
– Так, мол, и так. Познакомьтесь: вор малолетний. Пампушку украл.
Начальнику некогда было. Начальник знакомиться с Петькой не стал, велел посадить Петьку в камеру.
Сунули Петьку в камеру: сиди!
Сидит Петька в камере на грязной, замызганной лавке, сидит не шелохнется и в окно глядит. А на окне решетка. А за решеткой небо. Ясное такое небо, чистое, голубое, словно воротник у матроса.
Смотрит Петька на небо, и горькие мысли лезут ему в башку. Невеселые мысли.
«Ой, – думает Петька. – Жисть ты моя жистянка. Опять я, бродяга, засыпался. Нехорошо засыпался. С пампушкой».
Невеселые мысли. Разве весело, когда человек с позапрошлого дня хлеба не нюхал? А за решеткой охмуряться приятно? Небом любоваться интересно? Было бы за дело, а то – тьфу! – пампушка какая-то.
Ну, ясно, расстроился Петька. Глаза зажмурил, решил судьбы дожидаться. Только решил он судьбы дожидаться – слышит стук. Громкие такие удары. И не в дверь, а в стенку, в деревянную переборку.
Встал Петька. Глаза разожмурил, прислушался.
Определенно кто-то кулаком переборку ломает.
Подошел Петька к стене, заглянул в щель. Видит Петька – стены каменные, лавка, окно с решеткой. Окурки на полу. А человечьих следов не видно. Пусто. Никак невозможно понять, откуда идет этот стук.
«Что, – думает Петька, – за дьявол стучит? Гвозди заколачивают, что ли? Или давят клопов?..»
Подумал это и слышит голос. Бас. Мутным этаким басом кричит из угла человек:
– Пом-могите! Мам-мочки!
Кинулся Петька в угол, к печке. У печки щель. Видит Петька – тыркается в щель нос. Под носом шевелится ус. И черный косоватый глаз печально смотрит на Петьку.
– Мам-мочки! – мычит бас. – Голуби драгоценные. Отпустите меня за ради бога.
А глаз, как таракан, бегает в щелке.
«Что, – думает Петька, – за чудик такой? То ли псих, то ли пьяный? Ну факт, что пьяный – вон ведь как разит… Фу!..»
А разит действительно здорово. Течет по камере дух, не поймешь, самогонный ли, водочный ли, но здорово крепкий.
– Мам-мочки! – гудит пьяный. – Мамочки!
А Петька стоит, смотрит, и совсем неохота ему с пьяным в разговоры вступать. Другой раз непременно бы связался, а тут – скучно. Сказал только:
– Чего орешь?
– Отпусти, голубь, – говорит пьяный. – Отпусти, ненаглядный!
Вдруг как взвизгнет:
– Ваше благородие! Господин товарищ! Отпустите вы меня! Меня детки ждут!
Смешно Петьке.
– Дурак, – говорит. – Как я тебя могу отпустить, когда я такой же арестант, как и не ты? Где в тебе разум?
И вдруг видит Петька: просовывает пьяный сквозь щель ладонь, а на бородавчатой его ладошке лежат часы. Золотые часы. Чистокровные. С цепкой. С разными штучками и подвесными брелоками.