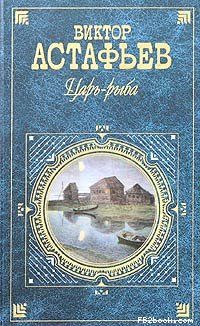Виктор Астафьев - Царь-рыба
Раз-другой покоробленные шептуны ступили на что-то твердое, каткое — кошкарник, выворотни, подумалось ей. Но вдруг блеснуло — след! Они идут по следу, несколько, правда, странному. На передувах и в забоях снег прорыло чем-то тупым, на чистине след раздваивало, виделись лыжные бороздки, собачья топанина. Горы, ломь оголенных громад, зловещей воронью чернеющих над белой лентой реки, отдалились в призрачность неба: сплюснутые, они там пластами соединялись с громадой недвижной небесной тверди.
Горы остались сзади. Значит, они их когда-то перевалили, значит, они идут к жилью, к становищу, к чуму, к рыбацкой бригаде! Не все ли равно? Лишь бы выйти на свет, на люди. Здесь погибнуть не дадут. Ототрут, отогреют, напоят, накормят, на оленях доставят куда надо, полечат и на самолете домой, к маме, в Москву отошлют.
Да неужели они есть: мама, Москва, люди, много людей! Никогда-никогда и никуда она больше не поедет, никогда не оставит мать, пусть курит табак, пусть ругается с авторами, «спасает» их. Стало быть, Аким попал на след, потому так и торопится, загоняет себя и Розку. «Бедный Аким! Хороший Аким!»
В лесу чуть посветлело, поослаб мороз — незаметно глазу, но ощутимо лицом помягчало в тайге, деревья реже хлопали разрывно, зато сильнее хрустело, сыпалось сушье и трупелый мох-бородач, слепленные холодом в табачные папухи[104], шорохтели листья, и эта невидаль отчего-то тоже пугала Элю.
Остановились в неглубокой разложине, засиненной от теней ли леса, от все еще тянущегося рассвета иль от подступивших уже сумерек. Эля упала грудью на возок. Аким еще набрался сил развести огонь, навесить котелок и тоже упал на тонко набросанный лапник, который, хрустнув, раскрошился под ним. Лицо Акима в кровяных царапинах, уши вздулись, кости скул завело под глаза, косицы старчески запали. Пили чай, не экономя сахар, пили жадно, много. Руки Акима дрожали, вздутые жилы черно ветвились, ровно бы звеня от надсады, по белкам глаз растекались лопнувшие сосуды, веки набухли, вывернулись мокрым исподом, и не взгляд, не глаза Акима так дико светились ночью, а это вот набухающее и набухающее мокро, под которым ничего, кроме смертельной усталости, не угадывалось.
Распечатав последнюю банку сгущенки, Аким погрел ее на огне, хлебнул пару ложек, наболтал молока в кружке и дал полакать Розке. Собачонка недоверчиво глядела на хозяина, пошевеливая хвостом; он приоткрыл глаза: «Ешь, ешь!» И она, всегда такая робкая, забренчала кружкой, заприхлопывала громко языком.
«Правильно! Чего продукты жалеть? Придем к людям, у них все есть, и молоко, и сахар. А собачка чистая, в тайге живет, на снегу спит, дичью питается. Ей можно и из кружки. Собака — друг. Розка — друг, вдесятеро вернее иных людей!..»
Снялись. Пошли. Костям больно отчего-то, и голова болит, в ушах звон. Гнали, не останавливаясь, без передышки, отчаянно торопились. Аким начал спотыкаться все чаще и чаще, вот и упал лицом в снег, поджал под себя руки. Розка скулила, лизала его в шею, в затылок. Эля склонилась над Акимом, боязно тронула его рукавичкой. Упершись руками в снег, Аким, сел, обмахнул рукавом лицо.
— Теперь иди. Сколь можешь. — Но все же он сжалился и потом, в какой-то час дня или ночи, до звона все выморозившей, слыша надсадный, хриплый кашель сзади, сорванно прохрипел: — Держись за нарту! — и, подышав, всхлипнул: — Не отставай!
Боясь отпуститься от возка, Эля перебирала не своими уже ногами и не только думать, замечать что-либо, ощущать потеряла способность. Кашель выбивал оранжевые вспышки в голове, валил ее на колени, тело покрылось мокром. «Погодите! Постойте! Я больше не могу!» — волочилась она по снегу. Но ее не слышали, и она осиливалась, привставала, тащилась за кошевкой, не чувствуя уже, как смерзаются глаза, губы, мокрые от кашля, как закаменело под лопатками и совсем нет дыхания, тошнота давит, выжимает из тела холодный пот, шум и звон в голове покрыли все звуки, все шорохи, яркие круги, вертящиеся перед глазами, сожгли весь белый свет и воздух. Хоть бы глоточек, один глоточек теплого, живительного воздуха!
В бреду, наяву ли она нашла, нащупала Акима в затени, привалившегося спиной к дереву. Ветви густо завязли в снегу, получилось что-то вроде шатра, здесь как будто было теплей. Воспринималось только это да освобождение от труда, от изнурительного бега, ломящего кости. В бреду иль наяву она увидела перед собой не лицо Акима, нет, не лицо — маску, вздутую, обожженную до кирпичной красноты, и по ней наземной, грибной россыпью бугрились пятна. Выстывшие, загнанные глаза светились красным, разящим оком и горели одной уж только силой упрямства и злобы. Она или не она, совсем какое-то другое существо, раздавленное ужасом надвигающейся смерти, ползало возле обмороженного, распластанного под деревом человека, тормошило его, тыкалось губами в лицо и, чуя окаменелость щек, носа, уже не просило опомниться, встать, идти, а вперебой с кашлем выстанывало:
— Прости меня!.. Прости! Прости!..
Когда-то пижоня, балуясь, забредала Эля в Елоховскую церковь на святые праздники, давилась в толпе зевак и верующих и вот теперь, на краю гибели, тужилась припомнить хоть что-нибудь из слышанных тогда молитв: «Боже, милостив буди мне, грешному, отче наш, иже на небеси… Да святится имя твое!.. Ради пречистый твоея матери, помилуй нас!.. Отврати лицо твое от грех моих… не отвергни… Воздаждь ми радость спасения…»
Слезы вымерзли, остановился крик. Она привалилась к Акиму, обняла его, спряталась лицом в то место, где за оторванной с мясом петлей, в меховом разъеме полушубка, под мягким, заячьим, ее руками связанным шарфиком прыгало горло, толчками вздымалась грудь и слышался хрип: «Молись! Молись ишшо».
И она послушно шептала, обращая молитвы уже не к небу, а к нему, к мужчине, к земному заступнику и покровителю, который во веки веков был опорой и защитой женщине, кормильцем ее, хозяином и господином. Так было. Так есть. Так будет. Никто, кроме него, мужчины, не спасет ее, слабую женщину. Надо подняться. Надо! Надо!..
И, поражаясь таящейся в женщине неистовой жажде жизни, он одолел слабость, поднялся, постоял на карачках, увязив руки в снегу. Оскалившись от боли, скуля по-собачьи, он выкачал себя из снега, пополз из-под дерева на четвереньках до синеющего следа. Там выпрямился, встал, шагнул, и Розка дернулась, затявкала. До этого он пинал, бил, топтал в снегу Розку-то, но она всё простила воспрянувшему к жизни хозяину, который, искупая вину перед ней, перед кем ли еще, волок теперь и ее и Элю и не мог уже ни кричать, ни материться, только хрипел погибельно, и хрип этот и был криком, что еще поддерживал его, не давал упасть.
Розка к чему-то принюхалась, туже натянула лямку, еще длиннее вывалила язык и зачастила, зачастила кривыми лапами, до мяса исструганными снегом и глызами[105]. Аким, не сбавляя хода, обернулся — руки его сцеплены на лямке, из-под которой выбивало пар, полушубок распахнут, шарф волочился по снегу, он приступал конец шарфа: «Падай!» — мотнул головой. И, зная, что приказание не повторится, сразу поняв, чего делать, не думая об Акиме и Розке, о том, как они ее повезут, не жалея их, а радуясь своему счастью, Эля опрокинулась в забитый снегом возок.
Ход нарты замедлился, она почти остановилась, но в струнку вытянутые человек и собака все же тащили — не возок, а непосильный груз — куда-то ввысь, в гору, и она сжалась в кошевке, в себе, чтоб быть меньше, легче, чтобы хоть как-то помочь человеку и собаке. Пыталась снова молиться, но не могла уже вспомнить не только молитвы, даже единой церковной фразы. Из скованного каленой стужей рта выталкивалось только: «Боже!.. Боже!.. Боже!..»
На припорошенном чистым, новым снежком пороге избушки, разбросив руки, врасшеперку лежал человек с лямкой и ружьем через плечо. За поясом его блестел топор. Человека рвало. Собака с игрушечной шлейкой на худом, ребристом тельце, со вдавленной на плечах шерстью торопливо и угодливо обихаживала крылечко и попутно лицо хозяина розоватым, ловким языком.
Дверь избушки заперта таяком, у стены сухие еловые слеги, источенные короедом, на них навален лапник — для ухоронки. Возле двери на бревне стес, все еще желтоватый. На бревне когда-то кривлялась черными каракулями матерщина. Таяк, с которым ходят на охоту, — палочка такая струганая, в деревянную скобу продернута и концом уперта в подгнившую укосину двери лесного зимовья. Кончик трубы над крышей, прогорелый до дырок; дрова под навесом, чтоб не заметало, тропка, пробитая к речному спуску, и следы, много следов, сделанных криво сношенными валенками, и торопливый, густой собачий след, будто набросанный ветром мятый лист.
— Ты куда меня привел?!
Человек не хрипел уже, не корчился на крыльце, он сидел на приступке, отплевываясь, отдыхивался.
— Ты куда меня приве-ол?! — Эля с неожиданной силой схватила спутника за отворот полушубка, дернула его с крыльца, затрясла, заколотила кулаками в грудь.