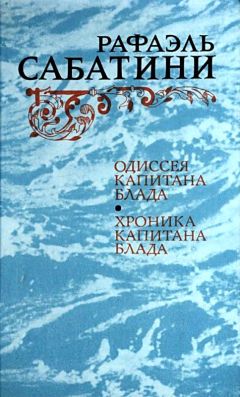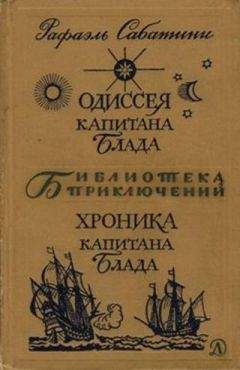Радий Погодин - Мост. Боль. Дверь
Избушка присела, когда Петров подошел. Он легонько взопрыгнул на широкую лаву. А двери избушки были открыты.
Избушка оказалась просторной, и это не удивило его. Посредине стоял деревянный темный и очень тяжелый стол, нагруженный яблоками, грушами, брюквой, морковью, капустой и луком. На деревянные блюда был насыпан горох и шиповник. И апельсины лежали всюду.
У стола сидела Зина в сине-зеленом платье с черными, возникавшими в глубине глубин тенями. В лице ее скорбном скопилось что-то от Софьи, от Лидии Алексеевны и от тех женщин, которых Петров не встретил, но мог встретить, и полюбить мог бы, и от тех других, которые могли бы полюбить его, но он им не встретился.
Он мог к столу сесть, чувствовал — может. Даже съесть что-нибудь мог. Чувствовал — вкусно. И на лавку с подголовником дубовую — дуб как почерневшая бронза — мог лечь и уснуть со сновидениями, от которых щиплет в носу, как от газированной воды. Чувствовал — допустимо. Но не смог — пошел к двери и открыл ее.
Не было ничего. Даже холода.
И трудно было дышать.
«Где лес? Нет леса!» — Петров увидел себя на площадке того немецкого дома. Осколки кафеля хрустели под ногами. Дверь была открыта в небо. Но неба не было. За порогом, куда ему предстояло шагнуть, все было мертвым и черным. Мертвыми были сады, мертвой была весна. Все было деформировано, сдвинуто, безвоздушно. Мертвыми были лепестки вишен у его ног. Как слюдяные бабочки. Волны реки не двигались.
И нечем стало дышать.
«Оглянись», — услышал он голос Волка, а может быть, Кочегара…
Он оглянулся, повернув голову медленно, как бы сламывая ослюденевшие позвонки.
И не было ни стола, ни лавки дубовой, ни самой избушки — было поле аэродрома. За барьером из крашеных труб стояла Люба. Она вздымалась на цыпочки, тянула к нему загорелую руку. И тоска в ее глазах была такой горестной, такой печально живой: в этот час она жалела его и нуждалась в нем — без него она была одна в целом свете. Это был момент истины, и, может, единственный в странной жизни Петрова. Да еще солдатские сны…
Люба махала ему рукой.
Прислонившись к березам, стояли понуро Каюков и Лисичкин.
«Откуда на взлетном поле березы?»
Кровь стучала в висках, словно голова его сделалась для кого-то литаврами. Сквозь этот грохот и удушающее гудение Петров расслышал отчаянный крик, далекий и слабый:
— Александр Иванович! Родненький!
Крик этот бился в его голове, и вокруг него, и отражался от деформированного пространства за дверью.
— Александр Иванович! Ну что ж вы не дышите?
Крик этот, наверное, стронул что-то в природе. Петров почувствовал едва различимый запах апельсинов и еще другой, чего-то ласкового и теплого.
— Ну вздохните. Вздохните…
Эти слабые запахи заставили Петрова отступить от порога и втянуть в себя воздух, разреженный, похожий на пузыри. Вздох был болезнен.
Люба в белом платье с красным пояском приближалась к нему. Приникала к нему лицом.
Крик бился уже возле уха.
— Александр Иванович, родненький, золотой. Ну вздохните же. Вздохните. Ну еще…
Петров вобрал в себя душного, словно пена, воздуху.
И открыл глаза.
Лидочка почти лежала на нем. Из ее глаз обильно лились слезы. Она держала возле его рта наконечник кислородного шланга. Кислород срывал с ее пальцев запах апельсинов и легких недорогих духов.
— Петров, миленький, Александр Иванович, родненький, — причитала Лидочка. — Что это вы вздумали не дышать? Вы возьмите-ка себя в руки.
Больные на других кроватях сидели: даже те, которым нельзя было сидеть, сидели, чтобы хоть так помочь Лидочке — ее великой любви и ее заботе спасения.
И это спасение снизошло на них всех.
И. Смольников. Рост души
Три повести этой книги — все о разном и в то же время об одном. О нашей набухшей болью эпохе. О наших современниках, прошедших горнило последней великой войны. О тех, кто даже если по возрасту не попал на нее, все равно задет ею. Задет так, как если бы сам воевал. О том, наконец, что нам без всего этого не прожить, не обойтись сегодня в нашей мирной жизни.
«Мне без вас нельзя, — говорит своим боевым товарищам Петров, герой повести „Дверь“. — Я без вас как без фамилии».
А он-то, Петров, как раз и не воевал. И друзья его боевые, Лисичкин и Каюков, приходят к нему лишь в его неотвязных снах. Но произносит он святую правду. Ибо это — вещие сны, и они реальность.
Но о снах этой повести — позже.
Сначала вспомним другие произведения Р. П. Погодина, написанные раньше, в которых он обращался к войне, и с которых начиналось взросление его героев. Это повести «Где леший живет» и «Живи, солдат», не вошедшие в этот сборник, но хорошо известные и полюбившиеся читателям, которые следят за творчеством Р. П. Погодина. А до этих произведений герои Р. П. Погодина словно проходили через свое детство и отрочество. Они были нашими друзьями и сверстниками: Кешка из «Кирпичных островов», Володька и Женька из «Время говорит — пора», Ремка и Валерка из «Мы сказали клятву», Васька из «Вандербуль бежит за горизонт». Дубравка — может быть, самое привлекательное и загадочное существо из всех, звонко прозвеневших в начале шестидесятых годов, погодинских «Рассказов о веселых людях и хорошей погоде».
Были и многие другие славные люди, мальчишки и девчонки, с которыми мы навек подружились на кирпичных островах больших и малых городов, с кем убегали за горизонт, с кем мы сказали клятву на верность и дружбу, на ненависть ко всякой нечисти и скверне. С кем в нашем далеком детстве встретили первые раскаты военной грозы. Наши мальчики головы подняли —
Повзрослели они до поры…
Наше взросление действительно происходило до поры, потому что вместе с героем повести «Живи, солдат» Алькой на фронт прорвались мы, шестнадцати лет от роду, скрыв этот мучительно непризывной возраст от цепких глаз военкомов и станционных комендантов.
Время нас не спрашивает. Оно властно говорит — пора. И тогда вчерашний мальчишка становится вровень с закаленным душой взрослым человеком. Война, случалось, делала и так, что опыт такого мальчишки оказывался пострашнее опыта бывалых солдат.
Капитан Польской, жалея Альку и желая отбить у него охоту лезть в пекло, жестоко сталкивает его со страшным ликом войны. Он посылает паренька в палату тяжелораненых, где «на винтовом табурете, какие ставят к роялям, сидел солдат в танковом, наполовину сгоревшем комбинезоне. Волосы на голове спеклись в бурые комья. Кожи на лице не было. С носа и пальцев стекала лимфа. Он не шевелился — не мог, иначе нарушится равновесие между покоем и болью, иначе боль пересилит все человеческие возможности».
Алька возвращается в свою палату спокойно, без суеты. Но с новым чувством и новым знанием и самого себя, и всех тех, кто, как этот танкист, несет в себе боль войны.
Он ничего не говорит в палате о своей встрече. Капитан Польской нетерпеливо спрашивает: «Каковы впечатления?» Алька смотрит на него «глазами медленными и перегруженными». «Вы меня напугать хотели, что ли? — спрашивает он. — Я же из Ленинграда. Я же в блокаде был».
О блокаде и об Альке в блокаде мы мало что знаем. Но в этих его словах, словно ослепляющим рикошетом, мгновенно опаляет нас нечеловеческий опыт первой блокадной зимы.
Нам, однако, уготовано еще одно испытание, и одолеть теперь предстоит только самих себя — окончательно ступая на тот крутой нравственный рубеж, с которого, собственно, и начинается взрослая жизнь воина.
Еще обгорелый танкист своими воспаленными глазами, недвижно глядящими на нас, властно потребовал: «Живи, солдат». Но как должен солдат жить, мы с Алькой поняли лишь в те грозные минуты, когда вместе с сержантом Елескиным бежали в атаку, когда сначала тяжело ранило сержанта, а затем ранило легко Альку, и он, «ни о чем не думая, в умиротворении и гордости» пошел прочь с поля боя.
Потом, совсем скоро, бредя в тыл, он оказывается рядом с лежащим на земле сержантом, переживает мгновенный удар стыда, преодолевает страх, невольно охвативший его под пулями и осколками, поднимает оброненный Степанов пулемет, укладывает «его ствол на правую, согнутую в локте» раненую руку и бежит на фланг своей роты, догоняя атакующих товарищей.
Так происходит мужание. Так на наших глазах происходит посвящение в солдата и человека. А первые слова пришедшего в себя после второго ранения Альки — «Степана доставили? Сержанта Елескина?» — свидетельствуют о том, что напутствие и приказ ему — «Живи, солдат» — теперь уже сбудутся бесповоротно.
* * *Когда читаешь прозу Р. П. Погодина, понимаешь, что она обладает той смысловой, нравственной и образной емкостью, которая делает художественное произведение и доступным, и необходимым как юным, так и взрослым читателям.