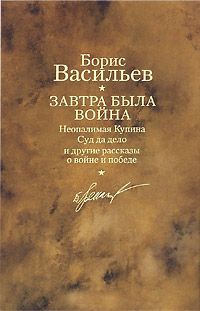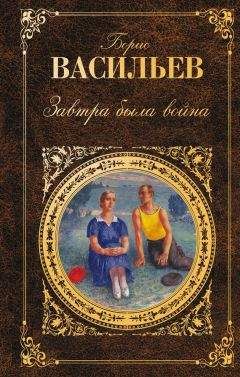Борис Васильев - Завтра была война. Неопалимая Купина. Суд да дело и другие рассказы о войне и победе
Больше он никогда не появлялся и не звонил… Катя упорно старалась думать о другом, о светлом, но горечь росла помимо ее желания и воли. И тогда она впервые во всеуслышание назвала свою машинку «старой «Олимпией“ с той интонацией, которая осталась навсегда. И стала носить очки.
А фильм она все–таки посмотрела. Правда, не премьеру, потому что билетов ей никто не прислал. Сцена, которую она придумала, была, но от этого горечь, засевшая в ней, словно всплыла наружу, и на картине той плакала она одна, хотя финал был оптимистическим и жизнеутверждающим, как и положено в кино.
И больше решительно ничего не случилось в ее жизни. Сын двоюродной сестры окончил институт и уехал, а двойняшки весело вышли замуж. Они никогда не бывают у нас, но Катя озабоченно говорит, что второй трудно живется, и зарабатывает ей ночами на кооперативную квартиру.
— Семь экземпляров. У меня хорошая машинка. У меня старая «Олимпия».
Если вам надо что–нибудь отпечатать, заходите: Катюша никогда не откажет. Наш дом за спиной ультрасовременных гигантов из стекла и бетона. Подниметесь на самый верх по крутой лестнице со стертыми каменными ступенями и сразу увидите дверь, на косяке которой — табличка с семью фамилиями, и только одна из этих фамилий с мужским окончанием. Моя. Только одна, потому что из нашего дома, подвалы которого до сих пор пахнут порохом 1812 года, а стены — горечью 41–го, мужчины уходили навсегда.
А фамилия… Какая разница, какая у нее фамилия? Она — Катюша, а это имя очень многое значило для нас. Очень многое.
Поверьте уж мне на слово, молодые…
Ветеран
— Алевтина Ивановна, что же это вы свои факты скрываете? Нехорошо!
Старший бухгалтер отдела сбыта Алевтина Ивановна Коникова — пятидесятилетняя, в меру полненькая и еще не утратившая инстинктивного желания нравиться — удивленно смотрела на секретаря комсомольской организации фабрики. Секретарь был юношески самоуверен, горласт и глядел с победоносным торжеством.
— Я ничего не скрыла, — начала она, лихорадочно припоминая все анкеты, когда–либо заполненные ею. — Я всегда…
— Да вы же, оказывается, ветеран!
Алевтина Ивановна неудержимо начала краснеть. Краснела она по–девичьи, заливая краской и лицо и шею, и сердилась при этом, но сейчас улыбалась мучительно заискивающей улыбкой. И встала.
— Ну что вы, какой же я…
— Знаем, знаем, факты проверены! — прокричал комсорг, наслаждаясь собственной осведомленностью. — Скромность, конечно, украшает, но в год, когда вся наша страна…
Комсорга несло, сотрудницы перешептывались. Алевтина Ивановна чувствовала их взгляды, смущалась еще больше, что–то бормотала, виновато оправдываясь, что она была не на фронте.
— Ну зачем же… Я же не на передовой. Я же…
— Вы — ветеран! — сияя искренней радостью, твердо перебил комсорг. — Ну, намучился я, пока вскрыл… У нас на фабрике при наличии поголовного большинства женщин вы, Алевтина Ивановна, — клад! Завтра выступаете.
— Завтра? — перепугалась Алевтина Ивановна. — Как завтра? Почему завтра?
— Мероприятие завтра в семь во Дворце культуры. Уже объявление пишут: «Воспоминания о войне». Пока!
Комсорг ушел, Алевтина Ивановна опустилась на стул и заплакала. Сотрудницы всполошились, побежали за водой, валерьянкой и главбухом. И главбух пришел раньше, чем притащили валерьянку. Он тоже был женщиной, этот главбух в строгих очках, ему не требовались ни факты, ни логика, и одновременный рассказ всех присутствующих позволил принять единственно правильное решение.
— Идите домой, Алевтина Ивановна.
— Как же… — выпив наконец–таки доставленную валерьянку, всхлипнула Коникова. — Отчет ведь.
— И завтра тоже можете не приходить: я договорюсь с дирекцией. Успокойтесь и подготовьтесь: у вас ответственное выступление.
И Алевтина Ивановна пошла домой. Впрочем, не сразу домой, а сначала в магазин, потому что у нее была семья, которую надо кормить. И, стоя в привычной очереди, занимаясь привычными делами, она как–то сама собой успокоилась и пришла домой хоть и взволнованной, но без того страха, который вдруг обрушился на нее при известии, что она — ветеран Великой Отечественной войны и что завтра ей предстоит выступать в самом большом зале Дворца культуры.
Она готовила обед, кормила прибежавшую из школы младшую дочь, слушала ее новости, даже что–то отвечала ей, а сама с необычайным упорством думала об одном. О том, как завтра выйдет на залитую ослепительным светом сцену, на которой доселе никогда не была, а видела только заезжих артистов, президиум в дни торжеств да участников местной самодеятельности. Думала о том мгновении, когда окажется перед затихшим залом, наполненным ткачихами, которые много лет знали ее и которых знала она. И этот знакомый зал будет напряженно ждать, что же она скажет, будет смотреть на нее, сдерживая дыхание, будет видеть в ней уже не старшего бухгалтера Алевтину Ивановну Коникову, а полномочного представителя тех, кто победил, и тех, кто не увидел победы. И этот момент появления перед людскими глазами занимал ее сейчас куда больше того, о чем нужно было бы подумать и к чему следовало серьезно подготовиться.
Правда, тут Алевтина Ивановна немножко успокаивала сама себя. Она очень верила собственному мужу — человеку серьезному, непьющему, прошедшему фронт, трижды раненному и все–таки взявшему Берлин. Он кропотливо собирал библиотечку военных мемуаров, читал только их, а художественную литературу считал выдумкой, не стоящей внимания. И Алевтина Ивановна твердо верила: уж он–то знает, как и о чем следует выступить, и напишет все, что полагается.
Но сегодня он что–то задерживался, ее Петр Николаевич. Алевтина Ивановна переделала все домашние дела, отправила дочку погулять, дождалась, когда она вернется, выслушала очередные секреты и усадила за уроки, а мужа все не было. Она мыкалась по квартире, пыталась написать письмо сыну, но дальше слов: «Здравствуй, дорогой сыночек!» — так ничего и не написала. И снова бродила, то вдруг хватаясь за очередное женское занятие, то вновь бросая его.
Следует сказать, что Алевтина Ивановна твердо считала себя очень счастливой женщиной. Настолько счастливой, что подчас ужасалась, оценивая размеры собственного женского счастья и не ощущая за собой ровно ничего необыкновенного: ни красоты, ни утонченного обаяния, ни больших знаний, ни каких бы то ни было талантов. Порой ей становилось отчаянно страшно за свое счастье, но то был добрый страх: он не пугал, а лишь как бы увеличивал цену того, что у нее дружная семья, любящий муж, хорошие дети, работа и уважение окружающих. И она всю жизнь старалась изо всех сил и дома, в семье, и на работе. Старалась оправдать и эту любовь, и эту дружбу, и это уважение. И однажды, допустив ошибку в какой–то особо важной бумаге, терзалась так, что чуть не угодила в больницу. И люди давно привыкли и к ее старательности, и к ее безотказности.
— Бригаду в колхоз? Поручите Кониковой.
Коникова ехала без всяких разговоров, и никто не сомневался, что порученные ей девчонки–ткачихи, оторванные от привычного труда на очередной картофельный аврал, сделают все точно и в срок. Сделают не потому, что Алевтина Ивановна проймет их юное легкомыслие какими–то особыми словами, а потому, что сама не уйдет с поля, пока задание не будет выполнено. Дотемна так дотемна, до ночи так до ночи.
— Поручите Кониковой. Коникова не подведет.
Коникова никогда не подводила, а вот завтра могла подвести. Она чувствовала, что могла, не знала, что следует предпринять во избежание этого позора, и все сегодня валилось у нее из рук. И ждала она своего Петра Николаевича как спасения.
Петр Николаевич пришел поздно: дочь уже спала, а по телевизору кончились передачи. Пришел усталый и хмурый, долго мылся в ванной, громко и сердито фыркал. Это было особое его фырканье, и Алевтина Ивановна знала, что расспрашивать о причинах плохого настроения, а тем паче высказывать какие–либо свои неприятности не следует. Следует ждать, когда сам заговорит: мужчина был с норовом.
Заговорил Петр Николаевич, закурив после ужина. Курил он только на кухне, обязательно открывая форточку: берег некурящих. А в этот вечер про форточку забыл, и Алевтина Ивановна открыла ее сама.
— Видишь, до чего довели? — с укором сказал он. — А все — главный. Я ему говорю, что обрывов не избежать: станки изношены, люфты уж никакими прокладками не выберешь. Я сегодня полторы смены без обеда ковырялся, аж внутри все дрожит. Тут не только про форточку забудешь, тут дом родной не найдешь.
— Сделал? — спросила она.
Спросила нарочно: знала, что все он распрекрасно отладил, проверил и проследил, как работает. Ее Петр Николаевич был редчайшим мастером–наладчиком, надеждой руководства, «доктором», как его называли в цехах. И спрашивала она только для того, чтобы он улыбнулся и чуточку похвастался.