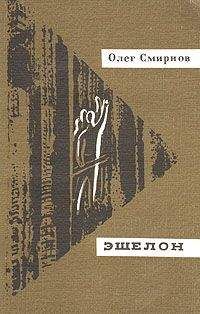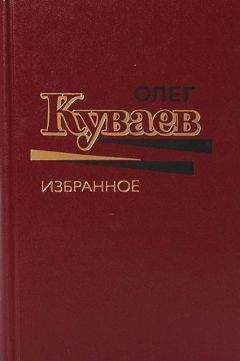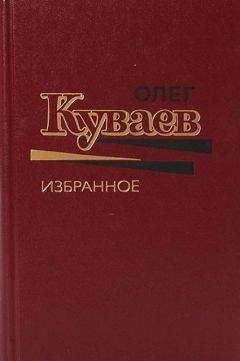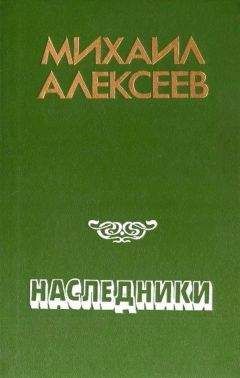Олег Смирнов - Проводы журавлей
В конце рабочего дня, в четыре, открылось профсоюзное собрание. Повестка дня: о дисциплине сотрудников фирмы. Мирошников устроился в передних рядах, ибо чувствовал себя вполне уверенно: не нарушал и не нарушит, в доклад и в выступления с отрицательным упоминанием не попадет. А похвалить могут. И еще был спокоен оттого, что выступать в прениях его не просили. Иначе пришлось бы готовиться, что-то набрасывать, волноваться: публичных выступлений не жаловал, хотя и не считал себя робкого десятка. Пускай другие-прочие выступают, бледнеют-краснеют. А он послушает. Когда потребуется голосовать за резолюцию, поднимет руку. И все, привет!
Профорг, фигуристая до умопомрачения дама в комбинезончике, довольно пространно говорила об успехах народного хозяйства страны вообще и министерства в частности, коснулась международного положения, осложненного милитаристскими происками и экономическими санкциями США и их партнеров, а уж потом стала развивать тезис о прямой связи деятельности фирмы с дисциплиной сотрудников. У профорга было сильное, прямо-таки оперное контральто, высокая грудь вздымалась от пафоса, длиннющие ресницы хлопали, как крылья бабочки, изящные пальцы с алым маникюром переворачивали страничку за страничкой машинописного текста. Но было опасение, что ее плохо слушают, отвлекаемые формами (большинство сотрудников — мужчины). Отвлекся и Мирошников, думал: джинсовый комбинезончик — дань моде, но Ричард Михайлович, требовательный к одежде мужчин (даже кожаные и замшевые куртки не поощрялись, только костюм, белая рубашка, галстук, как и положено клерку), к женщинам бывал снисходителен, к профсоюзной даме с ее внешностью — тем паче.
Однако отвлекались и невнимательно слушали лишь до того, как профсоюзная деятельница принялась перечислять примерных сотрудников (Мирошников напрягся и не пропустил своей фамилии) и тех, кто так или иначе нарушил дисциплину: в срок не подготовил бумагу, опоздал на работу, растянул обеденный перерыв, вел посторонние разговоры по телефону в служебные часы и так далее. Перед каждой фамилией аудитория затихала, а затем шумок пролетел, как ветер в лесу. Хотя доклад в общем-то был мягкий, корректный: скорее журил, чем критиковал, но, согласитесь, кому ж приятно услышать свою фамилию в ряду штрафников? И выступавшие в прениях тоже говорили о нарушителях сдержанно. Да и чего, собственно, форсировать голос? Прегрешения были невелики, да и давние.
И вдруг слово попросил Ричард Михайлович и обрушился на Петрухина, которого в докладе даже не упомянули! Он-де и такой-сякой и пятое-десятое! Докладчица малость смутилась, собрание подзатихло, а иные опустили глаза. Опустил и Вадим Александрович, но перед тем бегло взглянул на Петрухина: бледен, а на щеках лихорадочный румянец, как у чахоточного. Понять можно! Ричард Михайлович был крепко рассержен: почти кричал, размахивал руками, очки сверкали, галстук съехал набок, и безукоризненный пробор в волосах вроде съехал с места. Но патрон явно передергивал, возводил напраслину. Гневался не на упущения Петрухина — он парень дельный, а на его строптивость. Секретарша Людочка по секрету рассказывала: Ричард Михайлович как-то повысил голос, а Петрухин: «Вы на меня не кричите!» Ричард Михайлович еще пуще, а Петрухин повернулся и хлопнул дверью. Парень в конторе недавно и, вероятно, еще не уяснил: Ричард Михайлович непокорных не уважает. Совсем наоборот!
Ричард Михайлович кончил тираду и сел в президиум, оглядывая собрание, как бы рассчитывая увидеть в глазах одобрение тому, что говорил. И тут не опустишь взгляда, черт тебя дернул сунуться в первые ряды. Чего доброго, патрон потребует вставить в решение пункт о Петрухине. К счастью, проект был выдержан в общих выражениях, без персоналий, а Ричард Михайлович, к еще большему счастью, не выдвинул дополнений. Петрухину, хоть и шебуршился, слова не дали, решили прения закруглять. И Мирошников с легким сердцем проголосовал за резолюцию. Тянул кверху руку и думал: «Отца с его нравоучениями сюда бы! Что, выступить в защиту Петрухина и против Ричарда Михайловича? А кто загранкомандировки санкционирует? Поучать-то всякий может…»
А все-таки тошновато было на душе, когда расходились с собрания. В общем-то, ничего страшного не случилось, первый раз, что ли! Тошно стало оттого, что нехорошо, свысока подумал о записках отца. Отец, вероятно, как проповедовал, так и поступал, и ты не черни его убеждения. А что, если б отец был на собрании, да встал, да врубил Ричарду Михайловичу? Очень может быть. Ты не смог, а он смог бы, почему нет? И захотелось раскрыть общую тетрадь в коленкоровом переплете.
Ведь, если разобраться, любое поколение вольно или невольно передает следующему, как эстафетную палочку, свой опыт, доставшийся долгими годами. Так и я передаю свой опыт Витюше, быть может, сам того не примечая. Вот и записки отца — это модель опыта предшествующего поколения. Почему же отбрасывать его? Примерь, прикинь.
Вечером, до программы «Время», Вадим Александрович расположился было с тетрадями на кухне, но Маша решительно заявила:
— Э, нет! Читать не за счет нашего с Витенькой времени! Это наши часы, будь с нами. Читай после отбоя…
Мирошников согласно кивнул. Проверял, как сын приготовил уроки на завтра, надев фартук, пропускал через мясорубку говядину и свинину, лепил вместе с женой пельмени, переговаривался по ходу действий о тесте и мясе и о новостях на работе у него и у нее. На Машу подчас вот эдак накатывало — сварганим пельмешки! — которые все любили и которые, известно, надо лепить, замораживать, а варить уж на другой день. Зато завтра семейство объедалось! Пельмени — штука коварная: поглощаешь десяток за десятком, и все кажется мало. А хватишься, живот раздуло, переел. Тут бы выйти погулять на улицу, да разве выберешься? Была б собака, которую надо выгуливать, выбирался бы. Точней — собака б тебя выгуливала. Маша, верно, несколько раз заикалась о колли или овчарке, но Мирошников пресекал эти идеи: шерсть, аллергия, у Витюши может быть астма, таких случаев с детьми сколько угодно. Случаев действительно много, и Маша сдавалась. Нет-нет, хватит с них разболтанного мерзавца Грея на даче у стариков…
И снова он сидит перед тетрадями. Еще не начав читать, обнаруживает, что среди пронумерованных тетрадей, оказывается, нет двух — третьей и пятой, сразу четвертая и шестая. Утерять Мирошников не мог. Или отец их уничтожил почему-либо? Скорей всего затерялись при переезде, завалялись где-то.
Как он раньше не обнаружил н е д о с т а ч у? Итак, всего восемь тетрадей. Он полистал их одну за другой. Разные даты, разные чернила, разные ручки, почерк один — четкий, с наклоном вправо, хотя, впрочем, от тетради к тетради почерк становился менее четким. Понятно: годы, рука теряла твердость. А характер? Посмотрим, посмотрим.
Какое, однако, красивое имя — Мария! Горделивое, строгое, твердое. А он все «Маша» да «Маша», а то еще и «Машучок». Сантименты разводит. Не по-мужски. Любовь мужчины и женщины проявляется не в этом сюсюканье. А в чем? В грубой силе? Нет, конечно. Так в чем же? Не знаю, одним-двумя словами не определишь.
А интересно: что пишет отец в конце своих дневников? Изменился ли? Или остался прежним — в большом и малом? Хотя редко не меняются к старости.
Так-так, последние абзацы. Написано за неделю до смерти. Что написано?
«На днях пришел в поликлинику к хирургу вскрыть пустяковый нарыв на пальце. Женщина-врач говорит: «Прилягте на кушетку, а то может нехорошо сделаться». Во мне взыграла мужская гордость, я возмутился: «Вы хотите сказать, что я могу упасть в обморок?» — «Вот именно, профессор». — «Ну, знаете ли, я все-таки мужчина, фронтовик…» Хирург и сестра начали готовить свои причиндалы, звякают скальпелями, шприцами, всякие тут бинты, йод, вата — и мне стало дурно. Очнулся я уже на полу, врачиха сует мне под нос пузырек с нашатырем, приговаривает: «Недаром газеты пишут: берегите мужчин…» Ну что ж, нервишки измочалились, на фронте меня когда-то оперировали всерьез и не всегда с обезболиванием. Да что нервишки? Чаще и чаще думаю о кончине. Годы подходящие, и здоровье сдает окончательно. Гипертония одолела, стенокардия, сосуды ни к черту. Я не ропщу. Напротив, благодарен судьбе: могло убить в 41-м, а дожил до 82-го! Сорок лет, считай, подарили мне. И я их прожил, как считал нужным. Были промахи и ошибки, за которые приходилось расплачиваться. Но старался не изменять себе: что думал, то и говорил, что говорил, то и делал. Не было двоедушия. Верю, не было. Все так воспитаны, нынешние семидесяти- и шестидесятилетние. Эпоха приучила нас к прямоте, и мне после войны не хватало гибкости. По иным меркам, это плохо. Может, и плохо, да уж нас не переиначишь».
«Подбиваю бабки. Не хочется умирать, а пора. Что оставлю после себя? Кое-что полезное для людей, которых учил, — свои учебники, лекции. И — тоннели, они еще послужат! И — свой горный комбайн, который тоже, верю, послужит! Но лучшее из моего наследства, как надеюсь, — мой сын и мой внук. Вчера смотрел по телевизору: хор первоклашек, девчонок и мальчишек, беззубых, шепелявых, как мой Витька, и милых, чистых, как мой Витька, — верую, что из этих ребятишек вырастут порядочные люди, что, и встав взрослыми, они не испачкаются в житейской грязи. Да, моему сыну и моему внуку жить после меня. Долго-долго жить. И уже без меня будут правнук, праправнук. Здорово! Вечно древо жизни!