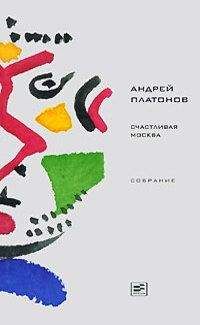Андрей Платонов - Том 2. Чевенгур. Котлован
Дванов вскочил на удобный зад Пролетарской Силы, и они поскакали вдвоем с Копенкиным.
Кучер Сербинова повернул лошадей обратно в степь и влез на облучок, готовый спасаться. Сербинов в размышлении прошел немного на Чевенгур, потом остановился: старые лопухи мирно доживали перед ним свой теплый летний век; вдалеке — в середине города — постукивал кто-то по дереву с равномерным усердием, и пахло картофельной пищей из окраинного жилища. Оказалось, что и тут люди пребывают и кормятся своими ежедневными радостями и печалями. Чего нужно ему, Сербинову? Неизвестно. И Сербинов пошел в Чевенгур, в незнакомое место. Кучер заметил равнодушие Сербинова к нему и, дав лошадям предварительный тихий шаг, понесся потом от Чевенгура в чистоту степи.
В Чевенгуре Сербинова сейчас же обступили прочие, их кровно заинтересовал неизвестный, полностью одетый человек. Они смотрели и любовались Сербиновым, будто им подарили автомобиль и их ждет удовольствие. Кирей извлек из кармана Сербинова самопишущую ручку и тут же оторвал у нее головку, чтобы вышел мундштук для Гопнера. Карчук же подарил Кирею сербиновские очки.
— Будешь видеть дальше — больше, — сказал он Кирею.
— Зря я его сак и вояж откинул прочь, — огорчился Копенкин. — Лучше б из него мне было сделать Саше большевицкий картуз… Или нет — пускай валяется, я Саше свой подарю.
Ботинки Сербинова пошли на ноги Якова Титыча, тот нуждался в легкой обуви, чтобы ходить по горнице, а пальто чевенгурцы пустили на пошивку Пашинцеву штанов, который с самого ревзаповедника жил без них. Вскоре Сербинов сел на стул, стоявший на улице, в одной жилетке и босой. Пиюся догадался принести ему две печеные картошки, а прочие начали молча доставлять кто что хотел: кто полушубок, кто валенки, Кирей же дал Сербинову мешок с настольной утварью.
— Бери, — сказал Кирей, — ты, должно, умный — тебе потребуется, а нам не нужно.
Сербинов взял и утварь. Позднее он отыскал в засыхающем травостое портфель и револьвер; из портфеля он вынул бумажную начинку, а самую кожу бросил. Среди бумаг хранилась его книга учета людей, которых он хотел иметь собственностью; эту книгу Симон жалел потерять, и вечером он сидел в полушубке и валенках — среди тишины утомившегося города — перед раскрытой книгой. На столе горел огарок свечи, добытый из запасов буржуазии Киреем, и в доме пахло сальным телом некогда жившего здесь чужого человека. От уединения и нового места у Сербинова всегда начиналась тоска и заболевал живот, он ничего не мог записать в свою книгу и лишь читал ее и видел, что все его прошлое пошло ему в ущерб: ни одного человека не осталось с ним на всю жизнь, ничья дружба не обратилась в надежную родственность. Сербинов сейчас один, о нем лишь помнит секретарь учреждения, что Сербинов находится в командировке, но должен прибыть обратно, и секретарь ожидает его для порядка службы. «Ему я необходим, — с чувством привязанности к секретарю вообразил Сербинов, — и он меня дождется, я не обману его памяти обо мне».
Александр Дванов пришел проверить Сербинова, который был уже наполовину счастлив, что о нем где-то заботится секретарь и, значит, Симон имеет товарища. Только это и думал Сербинов и одним этим утешался в ночном Чевенгуре: никакую другую идею он не мог ощущать, а неощутимым не мог успокаиваться.
— Что вам нужно в Чевенгуре? — спросил Дванов. — Я вам скажу сразу: здесь вы не выполните своей командировки.
Сербинов и не думал о ее выполнении, он опять вспоминал знакомое лицо Дванова, но не мог — и беспокоился.
— Правда, что у вас сократилась посевная площадь? — захотел узнать Сербинов для удовольствия секретаря, мало интересуясь посевом.
— Нет, — объяснил Дванов, — она выросла, даже город зарос травой.
— Это хорошо, — сказал Сербинов и почел командировку исполненной, в рапорте он потом напишет, что площадь даже приросла на один процент, но нисколько не уменьшилась; он нигде не видел голой почвы — растениям даже тесно на ней.
Где-то в сыром воздухе ночи кашлял Копенкин, стареющий человек, которому не спится и он бродит один.
Дванов шел к Сербинову с подозрением, с расчетом упразднить из Чевенгура командированного, но, увидев его, он не знал, что дальше сказать. Дванов всегда вначале боялся человека, потому что он не имел таких истинных убеждений, от которых сознавал бы себя в превосходстве; наоборот, вид человека возбуждал в Дванове вместо убеждений чувства, и он начинал его излишне уважать.
Сербинов еще не знал, где он находится, от тишины уезда, от сытого воздуха окружающего травостоя у него начиналась тоска по Москве, и он захотел возвращения, решив завтра же уйти пешком из Чевенгура.
— У вас революция или что? — спросил Сербинов у Дванова.
— У нас коммунизм. Вы слышите — там кашляет товарищ Копенкин, он коммунист.
Сербинов мало удивился, он всегда считал революцию лучше себя. Он только увидел свою жалость в этом городе и подумал, что он похож на камень в реке, революция уходит поверх его, а он остается на дне, тяжелым от своей привязанности к себе.
— Но горе или грусть у вас есть в Чевенгуре? — спросил Сербинов.
И Дванов ему сказал, что есть: горе или грусть — это тоже тело человека.
Здесь Дванов прислонился лбом к столу, к вечеру он мучительно уставал не столько от действия, сколько оттого, что целый день с бережливостью и страхом следил за чевенгурскими людьми.
Сербинов открыл окно в воздух, все было тихо и темно, только из степи доносился долгий полночный звук, настолько мирный, что он не тревожил спокойствия ночи. Дванов перешел на кровать и уснул навзничь. Спеша за догорающей свечой, Сербинов написал письмо Софье Александровне — он сообщил, что в Чевенгуре устроен собравшимися в одно место бродячими пролетариями коммунизм и среди них живет полуинтеллигент Дванов, наверно, забывший, зачем он прибыл в этот город. Сербинов глядел на спящего Дванова, на его изменившееся лицо от закрывшихся глаз и на вытянутые ноги в мертвом покое. Он похож, написал Сербинов, на фотографию вашего раннего возлюбленного, но трудно представить, что он вас любил. Затем Сербинов еще добавил, что у него в командировках болит желудок и он согласен бы, подобно полуинтеллигенту, забыть, зачем он приехал в Чевенгур, и остаться в нем существовать.
Свеча померкла, и Сербинов улегся на сундуке, боясь, что не сразу уснет. Но уснул он сразу, и новый день настал пред ним моментально, как для счастливого человека.
К тому времени в Чевенгуре уже много скопилось изделий — Сербинов ходил и видел их, не понимая пользы тех изделий.
Еще утром Сербинов заметил на столе деревянную еловую сковороду, а в крышу был вделан с прободением кровли железный флаг, не способный подчиняться ветру. Сам город сплотился в такую тесноту, что Сербинов подумал о действительном увеличении посевной площади за счет жилого места. Всюду, где можно было видеть, чевенгурцы с усердием трудились; они сидели в траве, стояли в сараях и сенях, и каждый работал что ему нужно — двое тесали древесный стол, один резал и гнул железо, снятое с кровли за недостатком материала, четверо же прислонились к плетню и плели лапти в запас, — тому, кто захочет быть странником.
Дванов проснулся раньше Сербинова и поспешил отыскать Гопнера. Два товарища сошлись в кузнице, и здесь их нашел Сербинов. Дванов выдумал изобретение: обращать солнечный свет в электричество. Для этого Гопнер вынул из рам все зеркала в Чевенгуре, а также собрал всякое мало-мальски толстое стекло. Из этого матерьяла Дванов и Гопнер поделали сложные призмы и рефлекторы, чтобы свет солнца, проходя через них, изменился и на заднем конце прибора стал электрическим током. Прибор уже был готов два дня назад, но электричества из него не произошло. Прочие приходили осматривать световую машину Дванова и, хотя она не могла работать, все-таки решили, как нашли нужным: считать машину правильной и необходимой, раз ее выдумали и заготовили своим телесным трудом два товарища.
Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал, но — или степи опустели, или ночи стали безлюдны — еще никто не явился на свет глиняного маяка.
Пока Дванов и Гопнер добивались улучшения своего солнечного механизма, Сербинов пошел в середину города. Между домов идти было узко, а теперь здесь стало совсем непроходимо — сюда прочие вынесли для доделки свои последние изделия: деревянные колеса по две сажени поперек, железные пуговицы, глиняные памятники, похоже изображавшие любимых товарищей, в том числе Дванова, самовращающуюся машину, сделанную из сломанных будильников, печь-самогрейку, куда пошла начинка всех одеял и подушек Чевенгура, но в которой мог временно греться лишь один человек, наиболее озябший. И еще были предметы, пользы коих Сербинов вовсе не мог представить.