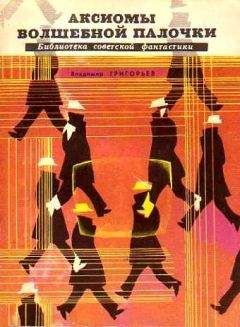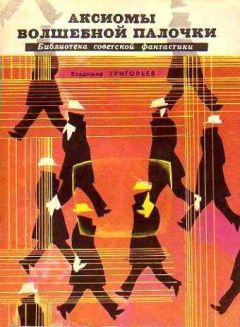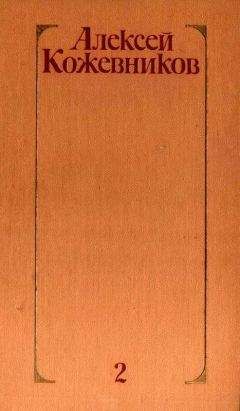Алексей Кожевников - Том 1. Здравствуй, путь!
Ночью пьяный землекоп исполосовал ножом всю адеевскую юрту, сам пред еле успел выскочить. Землекопа отправили в милицию, но через день он вернулся: милиция не имела ни машин, чтобы отправлять всех пьяниц и хулиганов, ни барака, где бы они могли отбывать наказание, и задерживала только самых опасных.
Запросили прибавку тепловозные, экскаваторные и компрессорные машинисты.
— И вы туда же, за этим кулачьем! Вам-то, истовым пролетариям, не стыдно разграблять свое государство?! — встретил их Адеев. — Не дам грабить и вредить не дам!
— А кто грабит? — Машинисты оправдывали свои требования изменившимися к худшему условиями. Осенние песчаные ураганы сделали работу гораздо тяжелей. Постоянно осаждаемый затесавшимися на строительство рвачами, Адеев привык считать всех недовольных храпами и не захотел понять этих доводов.
Свою неудачу машинисты шумно отпраздновали в Храповке.
Ни с кем не переписывавшийся, Адеев вдруг получит сразу три письма со штемпелями ближайших участков.
Распечатал одно: «Если ты, жандарм, не уберешься с разъезда, мы тебе, держиморде, выпустим кишки». Распечатал другое: «Даем тебе сроку два дня — смотать манатки». Третье смял и неразорванным выбросил в корзину, но истопница принесла его разглаженным и положила поверх бумаг. Сердито раздернул и прочитал вслух сидевшему у него Усевичу: «Товарищ рабочком, тебя собираются искалечить. Берегись! Попадет ловко — и убить могут. Лучше тебе уехать, от души советую».
— Ты часто получаешь такие? — спросил Усевич.
— Сегодня первый раз. Как думаешь, кто писал это последнее? Друг, враг?
— Больше склонен думать, что друг. Сердечно написано: «От души» — и так далее. Не все ли равно кто, важно, насколько серьезны эти угрозы…
— Уходить, бежать? Дудки! — Адеев торопливо свернул и закурил громаднейшую цигарку. — Врагов у меня… Знают, что я затыкаю глотки. Леднев подначивает, потрафляет, вот на меня и прут. — Заплюнул не докуренную цигарку, кепкой разогнал волны дыма и опустил закружившуюся голову. — Ты построй-ка мне землянушку аршин шести с круглым накатом, дверь здоровую и пробой для замка.
Усевич записал в блокнотик и широко улыбнулся.
— А ты поддержи меня перед Ледневым, прошу прибавку.
Адеев сумрачно оглядел чистенького Усевича, как бы невзначай ткнул грязным сапогом в начищенный башмак и проворчал:
— Ладно. Бабу, што ли, заводишь?
— Да, да, скучно! — захлебнулся Усевич. — Что им зря пропадать.
Землянушка строилась в ударном порядке. Усевич и сам предрабочкома наблюдали за стройкой, выбирали бревна потолще, доски покрепче. Рабочие интересовались:
— Для чего такую грохаете? Для аммонала? Для рабочкома? Ну, знать, Адеев долго жить думает.
Заинтересовался землянушкой Леднев и официальным отношением запросил, для чего она строится. Адеев поперек отношения написал: «Заслужишь — и ты в нее попадешь». Он понимал инженера как злостного саботажника и постепенно суживал его полномочия. А Леднев охотно отдавал их. Он ждал еще больших осложнений, предполагал даже полную катастрофу и постепенно подготовлял для себя безопасную должность консультанта.
Писались новые заявления, подбрасывались еще более грозные письма, а предрабочкома не уходил с разъезда и не открывал дороги к турксибовским рублям. Его решили принудить иными средствами, — над головой пролетел камень и грохнулся в стенку барака в трех шагах от нагнувшегося Адеева. Обломок саксаула, пущенный кем-то, задел ногу и оставил бурый кровоподтек. Землекоп, однажды выходивший с ножом, вышел снова. Он был пойман и отведен в отстроенную землянушку.
На дверях землянушки появилась размашисто и торопливо сделанная кем-то на ходу надпись:
Тюрьма имени предрабочкома Адеева.
Работавшие некоторое время на Джунгарском, до поездки на саксаул, Грохотовы имели там друзей, знакомых, знали Адеева как человека властолюбивого, но в общем терпимого и вновь ехали на разъезд с той легкостью, с какой входят выдернутые гвозди на свои старые места. Трудное сообщение с Джунгарским, сплошь и рядом кончавшееся поломом машин, обыкновенно поручалось шоферу Сливкину. С ним ехали и Грохотовы на мягком грузе палаток.
Огуз Окюрген с вертлявой дорожкой по горному карнизу, подъем на Малый Сары, безымянное ущелье, еле пропускающее машину, крутой поворот «Пронеси, господи» и гулкая просека темно-коричневых гранитных столбов, — несколько часов непрерывного риска и незабываемых переживаний: страха, радости, сердечного замирания.
Шура испытывала полузабытое юношеское буйство — тянула руки к шершавым каменным стенам, на поворотах обнимала мужа крепко и с криком: «Полетим! Полетим!» — сильно склонялась к борту машины, пела, громко ухала, пытаясь вызвать отклик далеких, сияющих снегами горных вершин.
Зная всю опасность дороги и неприязнь шоферов к буйным пассажирам, отвлекающим их от рулевой баранки, Грохотов покрикивал на жену:
— Перестань! Ты мешаешь Сливкину.
— А мне хочется, хочется. После Балхаша, после всей ерунды… Ну, дай же мне порадоваться! Товарищ Сливкин, я не мешаю, можно петь?
— Пожалуйста! — не поворачиваясь, откликался шофер. — Все можно, только под руку не толкайте!
Выбились из гор на ровную песчаную платформу. Шура затихла, помаячила рукой и, склонившись к мужу, прошептала:
— Помнишь — речонка и маленькая-маленькая ластовка травы. Когда ты бывал трезвым, мы ходили туда. Потом ты сильно запил, и ходить перестали.
— Ну, помню! — Он притянул ее к себе. — Ты все сердилась, что у тебя в волосы набивался песок? Травешка редкая была.
— Да, да! — Она закивала закрасневшимся лицом. — Полянка-то совсем маленькая…
Прямо из машины отправились к Ледневу договориться о работе для Шуры. Она вместо назначения имела письмо от Елкина, где он советовал взять ее на тепловоз. Леднев имел вид человека, получившего длительный отдых — одетый в халат и домашние туфли, он играл и шахматы с кассиром. Грохотовых встретил приветливо, протянул обе руки, устроил из кошмы, свернув ее трубкой, нечто вроде дивана, заставил раздеться и попросил кассира оборудовать стол и закуску. Он не часто оказывал людям такое гостеприимство, но к Грохотовым у него было не вполне понятное и самому расположение.
— Слышал, знаю, — говорил он, улыбаясь то ей, то ему. — Идея послать на саксаул как нельзя лучше оправдала себя. Я, признаюсь, с любопытством следил за вашей парой. — Проглядел письмо Елкина, аккуратно положил обратно в конверт и, сделав сокрушенное лицо, подал Шуре. — К сожалению, я ничего не могу. У нас хозяйствует Адеев. Он распоряжается всем, и моим аппаратом, и не прочь даже самим мною. Мне оставлена маленькая роль — советника по технической части. Картина прелюбопытная: у нас, к примеру, тюрьма, все требования рабочих истолковываются как рвачество, Адеев — един во всех лицах, он — и профсоюз, и партия, и администрация. Я не протестую, делаю свое прямое дело, имею время для отдыха и свободен от постоянной угрозы отвечать за чужие вины и промахи.
Шура истолковала слова Леднева как нежелание иметь ее и мужа на разъезде, приветливость — за красованье своей вежливостью и, немного побледнев, прямо, не желая ходить вокруг да около, спросила:
— Вы почему-нибудь не хотите нас? Я прошу вас быть откровенным. Лучше невежливо, но искренне, чем вежливо, но неискренне.
Леднев замахал на нее руками и заговорил, привскочив:
— Не сочиняйте, не старайтесь! Действительно, у нас — все-все рабочком! Это подлинная картина, кое-кого видеть я определенно не желаю и стараюсь не видеть. Но вас — у меня нет ни оснований, ни поводов. Конечно, я могу принять, назначить вас, но будет конфликт: наши с рабочкомом отношения — сплошной конфликт!
— Я не хочу конфликтов. — Шура левую руку приложила ко лбу, как прикрывают глаза от слишком яркого света, и, выглядывая из-под руки, сказала:
— Все — рабочком… Что же у вас такое? Что же такое вы?
Леднев поиграл узкими бровями, сморщил гармошкой лоб, помычал и ответил, раздумчиво покачивая ногой:
— Я — вроде иностранца. Трудно определить мое кредо. Я плохой социолог, но подозреваю, что у нас развертывается любопытный социологический факт. — И коротко рассказал о положении дел на разъезде.
— А партия… Она ведь есть? — спросил Грохотов.
— Есть. Сам Адеев — партия. Она уступила так же, как уступил я. Кто пьет, кто не хочет делать, кто не может, а кто считает Адеева генеральной линией и крепкой рукой. Оно и верно. Из всей здешней партии он самый упрямый и властолюбивый.
Встреча с Адеевым убедила Грохотовых, что слова Леднева не были пустой отговоркой, а характеризовали подлинную картину разъезда.
— Ты пьешь? — спросил Адеев (он помнил Грохотова, как пьяницу). — Запьянчужек у меня много своих. Не пьешь? Ладно! А ее куда?