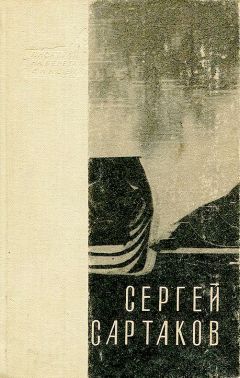Сергей Сартаков - Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот
Понимаете? В создавшейся обстановке статья эта как звучит?
И в этот же день, так совпало, ревизор закончил проверку. В своем заключении он признал заявление необоснованным, назвал Кошича молодым сутягой, демагогом и дезорганизатором производства и рекомендовал привлечь его за клевету к уголовной ответственности. Каково?
Но и это еще не все. Выяснилось: Кошич свои камешки ссылал в картонную коробку из-под ботинок, которую держал у себя под кроватью. Хозяйка его квартиры, тетя Дуся, прибираясь, рассыпала камешки. Часть из них сложила обратно в коробку, остальные вымела. Представляете?
Короче говоря, в этот день хотя и не возле кассы, где я назначил ему, но при всем народе Кошич просил у Виталия Антоныча прощения. И было видно, что все это, вместе взятое: статья в газете, заключение ревизора, история с камешками и тот «дер», который уже мы ему дали теперь, — прожгло Кошича насквозь. Он не кричал и не дергался. Только спрашивал, ловя всех нас по очереди: «Меня с работы не выгонят? Ведь я же хотел для всех лучше сделать. Я был убежден. Мне казалось…»
А когда шел с Тумарком домой, по пути сказал ему:
— Мне, наверное, самому надо уволиться?
Глава четырнадцатая
Комета Галлея
Люди часто говорят: «Как я рад, что, наконец, вырвался из города!» А другие: «Как я рад, что, наконец, вырвался съездить в город!» Вообще-то понятно. Где надоело, оттуда и вырываются. Куда очень тянет, туда и рвутся. На Енисей меня всегда тянет и будет тянуть. Я рвусь на Енисей. Но я не сказал бы, что поэтому я хочу откуда-то и вырваться. Из города, из дома или с работы. Слово «вырваться» ко мне никак не подходит. Я люблю и свой город, и свой дом, и свою работу. А на Енисей все же рвусь, хотя и сам не знаю откуда.
Мы все обдумали и рассчитали. Едут четыре пары: Барбины, Тетеревы, Мухины и Фигурновы — и пять одиночек: Тумарк, Кошич, Шура, Виталий Антоныч и Алешка. Итого, тринадцать.
Тут вы можете сразу спросить: «Почему Кошич?» Да потому. Виталий Антоныч сказал: оставить Кошича одного в такой момент — значит вовсе от него отвернуться. Он сейчас разбит, потрясен, душа у него приоткрылась, надо войти в нее доверием к нему. Тем более что и сам он еще до этой развязки с камешками стал делаться как-то мягче, дружнее со всеми. Ревизор при этом тоже присутствовал, сказал: «А я, пожалуй, дело все-таки двину». В руке он держал газету «Известия». Но Виталий Антоныч подошел к ревизору: «Позвольте, мы пока им сами займемся».
Вот почему Кошич.
Шура сказала: «Я тринадцатой не поеду».
Виталий Антоныч сказал: «Я, ребятки, стал человек суеверный. Езжайте без меня».
Кошич сказал: «Не поеду, я плаваю плохо». Будто он должен был плыть до Шумихи стилем брасс!
Тумарк и Алешка соглашались ехать тринадцатыми.
Было ясно, почему отказываются Шура, Виталий Антоныч и Кошич. Маша, смеясь, сказала: «Очень просто. Совсем не нужно нам брать с собой Алешку. Какая он нам компания?» Заявленные отказы тогда сразу повисли в воздухе, числа тринадцать не стало. И Маша с Диной постепенно всех уломали.
У Васи Тетерева никак не ладилось дело с мотором. В субботу он вместе с Володей Длинномухиным чистил и протирал эту штуку, наверно, часа четыре, но мотор все равно чихал. Вася сказал: ночь не будет спать, но к рассвету все сделает.
А мне пришла такая мысль: уйти еще с вечера пешком с Машей и Алешкой по берегу до той самой скалы, под которой мы встречали «наш ледоход», и там переночевать у костра. Утром подъедут на моторочке остальные, и мы, если понравится, так и проведем весь день под этой скалой, а не то поплывем дальше, до Шумихи. Маша засомневалась. Неловко отрываться от компании и тем более обманом включать в нее потом «тринадцатым» Алешку. И вообще нести его по жаре больше пятнадцати километров, а потом на ночь укладывать на холодную землю очень рискованно. Я сказал, что понесу Алешку сам, мне это не тяжело, а поспать парню на открытом воздухе, наоборот, очень полезно. И никто не рассердится на «тринадцатого», потому что все же знают, что «тринадцатый» был только предлогом, чтобы сперва поломаться. А то, что мы встретим нашу компанию на берегу, — так это даже интереснее, веселее. И пусть об этом знает только Дина. Она придумает для остальных про нас какую-нибудь легенду, всех позабавит.
И Маша согласилась.
Нам повезло. В самом прямом смысле. Зашел Степан Петрович и сказал, что на известковый завод катерок управления пароходства сейчас потянет баржу. И мы успели на нее погрузиться не только сами, но и взять старенькое одеяло, ведро картошки, еще там какой-то ерунды, чтобы готовым завтраком встретить «наших». Алешку я устроил в ямке на мотке пенькового каната. В открытый Енисей парень выходил на настоящем судне первый раз.
Плавать по Енисею я привык на пассажирских теплоходах, которые режут его со скоростью двадцать пять километров в час. Наша баржа тянулась не знаю с какой скоростью, но Маша сказала шутя: «Костя, ты утречком разбуди меня, когда мы под железнодорожным мостом проплывать будем».
Мост виден был прямо от пристани.
Однако в ее словах звучала и правда: дай бог, если мы только лишь к самой ночи притащимся на известковый завод.
Но я готов был плыть туда хоть целую неделю, до того хорошо было на реке. Стояли самые длинные летние дни, дул маленький попутный ветерок, приятно холодил спину, а когда вдруг спадал совершенно, горячий скипидарный воздух от баржи окутывал тебя, словно мягкое облачко. Люблю этот запах снасти и дерева, пропитанного черной кипящей смолой!
Красноярск — город шумный. Но когда выходишь вот так на барже на самую середину реки, он словно немеет. Видно, как по улицам бегут автобусы, грузовики, у пристани кивают длинными стрелами подъемные краны, дальше, на перевалочной базе, работают бревнотаски, подхватывая лес из реки железными цепями. И все без звука. Будто на весь мир опустилась удивительная тишина. И только стучит мотор на буксирном катере, бурлят винты, выбрасывая за кормой зеленоватую волну; и масляно трется вода о крутую обшивку баржи, чуть-чуть журча и похлюпывая; и вполголоса поет Маша: «Енисей, Енисей, брат полярных морей…»
Плотник не построит дома, сапожник не сошьет ботинок, художник не нарисует картины — словом, никакой мастер не сделает вещи, если еще в работе не посмотрит на нее со стороны. На Красноярск тоже надо по временам смотреть со стороны. Хотя бы с самолета, с Афонтовой горы или вот так, с Енисея. Только тогда по-настоящему и поймешь, какой это превосходный город, какой он красивый и могучий и как растет он и все хорошеет день ото дня!
Куда ни погляди — труд человека. И для человека. Если бы Красноярск такой, как он есть, построили не люди, а муравьи, я не назвал бы его красивым. Если бы руки мои ворочали камни, но из этих камней не сложилось бы ничего для людей полезного, я не назвал бы это работой.
Я давно не плавал по Енисею и сейчас готов был плыть сколько угодно. Даже прыгнуть с баржи и начать отмахивать саженками до самой Шумихи. Против течения! Вдохнуть, заглотнуть в себя весь этот пахнущий медом и смолой речной воздух, только не разорвалась бы грудь. Подпрыгнуть, чтобы тебя подхватило тугим, теплым ветром, вытянуться и полететь. Вы когда-нибудь во сне летали над землей? Я летал. И это очень просто. Надо только стремиться сильно, всем телом, вперед и вперед и все время забирая чуточку выше. И можно, летать хоть всю ночь. Днем это не получается. Но в этот раз могло получиться, если бы Маша то и дело не дергала меня за руку: «Костя, куда ты тянешься? Свалишься в воду с баржи!»
Енисей для меня не может быть скукой. Его разговор можно слушать не отрываясь сколько угодно. Он не просто течет, он все время работает, красиво и сильно; несет на себе пароходы, баржи, бревна, по дну катит звонкую гальку; глиной, песком забивает, заделывает трещины дна, чтобы вода не ушла в землю, чтобы побольше донести ее в океан, пока — для солнца, которому вода потребна на изготовление облаков. Енисей с солнцем и ветром давно работает заодно. Когда человек воздвигает стометровую по высоте плотину в Шумихе, Енисей станет больше работать заодно с человеком. Носить на себе только пароходы, бревна и баржи — легкий труд. А вот поворочать турбины будет труднее. Ничего, справится богатырь!
Мы проплыли и под мостом, по которому как раз проходил курьерский поезд Москва — Иркутск. И мимо мелькомбината, где белые элеваторы, глухие и высоченные, стояли для меня постоянными загадками: как они устроены там, внутри? И мимо Базайской лесоперевалочной базы, где бревен и на берегу, в крутых штабелях, и на воде грудилось столько, что можно было бы из них построить, наверно, еще два Красноярска. И мимо высокой скалы, о которой старожилы спорят, как ее правильнее называть: Шалунин бык или Шеломин бык. Шалунин потому, что вода под ним шалит, балуется, а Шеломин потому, что видом своим походит он на шлем, шелом по-древнеславянски.