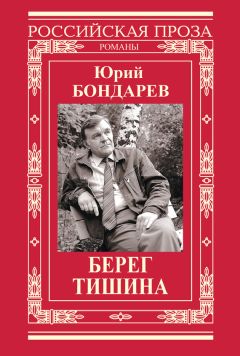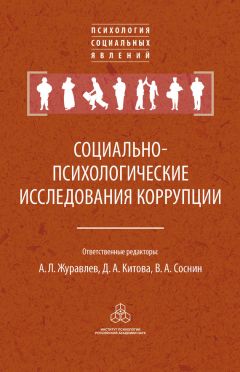Юрий Бондарев - Берег
— Господин Никитин, прошу вас сюда, обратите внимание…
И Никитин, отчетливо услышав рядом беглый стук по стеклу, увидел в двух шагах впереди Дицмана: тот остановился подле окна и, жадно нюхая незажженную сигарету, смотрел на смуглую, выделяющуюся маленькой черной, гладко причесанной головой проститутку, похожую на молоденькую испанку, одиноко и скромно сидевшую под распятием в кресле близ сиреневого торшера. На ее утонченном оливковом лице темнели угольные брови, темнели синими тенями на щеках неестественно длинные ресницы, два пальца молитвенно застыли у золотистого крестика на груди. Дицман громче постучал ногтем. И испанка, вроде просыпаясь постепенно, подняла глаза, лихорадочно блестящие неприступным монашеским фанатизмом, а он, быстрым взглядом ее оценивая, жестом показал, чтобы она повернулась в профиль. Она покорно подчинилась, слегка выпрямила шею и испытывающе глянула на него своим южным прожигающим взором, растягивая ярко-малиновый губы улыбкой. Дицман подумал, притворно-разочарованно покачал головой, и проститутка стоически поджала рот, медленно смежила наклеенные ресницы.
— Какая прелестная девочка, — зашептал Дицман. — Как она артистически играет целомудрие. Рафаэлевская Мадонна! Вы когда-нибудь видели такую красивую католичку?
— Признаться, господин Дицман, мне что-то стало не очень по себе в этом универсальном женском магазине, — сказал Никитин. — Все ясно. Наверное, не стоит больше задерживаться. Пора уже уходить. Тем более нас ждут.
— Разумеется, разумеется. Сейчас мы выйдем отсюда в следующие ворота… Но где наш серьезный господин Самсонов? Его еще не соблазнили гамбургские гетеры? Ах вот он где, теперь я вижу его! Что его заинтересовало? Кажется, неразлучные подружки? А, это представляет незначительный интерес!
Самсонов, в надвинутом на лоб берете, каменно заложив руки за спину, стоял на другой стороне улочки позади группы каких-то христоподобно длинноволосых молодых людей неопрятного вида; трое из них были облачены в лохматые до щиколоток шубы; все они взбудораженно теснились на тротуаре, нетрезво хохоча, понукающе советовали что-то на английском языке двум проституткам, видным в окне, — беленькой, с кукольным личиком, и черноволосой, с сильным торсом борца, которые сидели, обнявшись, щека к щеке, невозмутимые, исполненные равнодушия, глядя куда-то поверх толпы юнцов, возбужденно кричавших им: «Фрау лесбос, браво, лесбос!..»
— Платон! — позвал Никитин и, увидев его набрякшее багровое лицо, сказал: — Мы уходим. Пошли.
— Должен вам сказать, — ядовито заговорил Самсонов, разрезав массивным утюгом своего плотного живота текущий мимо окон поток мужчин и подходя к Дицману, — что у вас действительно успешно совершена сексуальная революция. Но не хватает одного — сексуальной контрреволюции. Почему? Да потому, что мы дискутируем с вами о смысле жизни, о прогрессе, о человеческой личности, — да это же болтовня по сравнению с этим, так сказать, революционным переворотом!
Дицман тонко улыбнулся, раскланиваясь.
— Должен вам сказать, господин Самсонов, что некоторые немцы, поклонники нацизма, заявляют следующее: будь Гитлер, он пообрезал бы всем длинноволосым космы, запретил бы читать Кафку, подавил бы сексуальную революцию, уничтожил бы эти секс-центры и установил бы добропорядочную нравственность в покорной стране. Вы, таким образом, хотите объединиться с реваншистами? Во взрыве секса никто пока не знает всей правды. Пока — нет.
— Не объединяйте, прошу вас, меня с реваншистами! — проговорил Самсонов, выкатывая белки за стеклами очков. — А что касается «всей правды», о которой говорил господин Никитин, то не знаю, как чувствует себя мой коллега, но еще минута — и меня затошнит от этого мерзостного рынка похоти.
— Я завидую вашей похвальной чистоте, господин Самсонов! — засмеялся Дицман. — Вы либо толстовец, либо святой, но злой святой!
«Зачем он то и дело показывает зубы? — подумал Никитин и нахмурился. — Он как будто хочет поссориться не с Дицманом, а со мной, и как будто хочет самоутвердиться в чем-то, доказать что-то мне. Глупо, вдвойне глупо, и совсем уж некстати!»
Глава четвертая
В этом кабачке, до отказа переполненном, шумном и дымном, по-видимому, хорошо знали Дицмана — приятный, скромного вида мальчик-официант провел их к зарезервированному столику в углу, уже приветливо накрытому чистейшей скатертью, салфетками, расставил бокалы и рюмки, принял заказ и, обрадованный, заскользил прочь, в обход толчеи танцующих молодых людей, в розовых слоях сигаретного дыма. Вокруг на столиках горели свечи, покачиваясь от хаотичного топота, бешеного круговорота пар посреди залика, от оглушительно звенящих ритмов джаза, от смеха, говора, и было душно, жарко, подвальный воздух был сперт, нагрет дыханием, движением тел, потных лиц, мельканием длинных волос, взмахами рук, хлопаньем ладошей, вилянием бедер, взлетом ног под куполами коротких юбочек.
«Кажется, мы здесь не очень отдохнем, в этой „Веселой сове“», — подумал Никитин, все же любопытно оглядывая кирпичные стены кабачка, сплошь изрисованные мелом, исчерканные надписями, завешанные разнообразными старинными часами без циферблатов и стрелок, старомодными женскими зонтиками и мужскими шляпами, поломанными остовами велосипедов, торчащих спицами колес, исковерканными автомобильными рулями меж стертых кругов резиновых покрышек; потом различил поблизости от стола, в нише, запыленную донельзя, изуродованную пишущую машинку, заставленную по краям пустыми бутылками, справа — потускневший, весь в паутине портрет Бетховена над тоже обезображенными, вывороченными клавишами пианино — и не без удивления перед собранной тут коллекцией хлама спросил Дицмана:
— Что же здесь — стиль или какие-то причуды? Могу догадаться, но все-таки?
— На это может ответить только сам хозяин кабачка, — ответил Дицман превесело и скосился на Самсонова. — А как вы находите это место после той улицы, которая вам так не понравилась?
— Разве не понравилось? Господина Самсонова не смогли соблазнить прелестные гамбургские девочки? — воскликнула Лота Титтель, и брови ее взметнулись в игре осудительного удивления. — Никак не расшевелили красотки? В таком случае на вас надо было натравить змееобразную женщину-вамп с острым бюстом и испепеляющим взором — ф-ф-ф! Смотрите на меня!..
И она точно начала заколдовывать его, помертвела зрачками, вытянула острые коготки с выражением преувеличенной страсти, изображая хищное положение кошки, нацеленной броситься из засады, но Самсонов, не поддерживая этой ее игры и особенно сейчас телесно прочный за столом, насмешливо-невозмутимый, обвел очками сгущенную толпу танцующих, ответил:
— Напрасный труд. Никогда в жизни я не покупал любовь женщины. Упаси бог испытать подобное унижение.
Лота Титтель сплела тонкие пальцы у подбородка, зашептала полусерьезно:
— Бог мой, вы — сама невинность, господин Самсонов. Бы будете жить две жизни. Вы вознесетесь в небо, у вас вырастут белые лебединые крылья. При виде вас мне хочется молиться: о, боже, спаси мою грешную душу, прости мне все грехи, все пороки, всех мужчин, все вина, все сигареты. Вот какое влияние русского востока вы оказываете. Брошу петь, курить, пить, уеду к вам в Россию, уйду в какой-нибудь бедный сибирский монастырь!
— Благодарю вас, — снисходительно сказал Самсонов. — Примут ли? Не дорого ли придется заплатить за индульгенцию?
Госпожа Герберт, все время молчавшая, прикуривая от пламени свечи сигарету, внимательно, лучась глазами, посмотрела на Никитина — он одновременно потянулся сигаретой к огню — и тотчас улыбнулась ему смущенной и радостной улыбкой. Он, мимолетно ощутив этот вопросительный взгляд, тоже улыбнулся ей невольно. В глазах ее ясно отразились огоньки свечей, и почему-то они показались теперь не синими, а прозрачно-черными, переливающимися тревожно-ласковым влажным блеском, — и Никитин, внезапно задохнувшись от толчка в сердце, подумал, что она в этот миг подумала о том, о чем должен был бы помнить и он, что и дискуссия, и нескончаемые разговоры, и поездка в машине, когда она искала его лицо в зеркальце, — весь сегодняшний вечер, наверное, ничего не значил для нее, прошел в затянувшемся полусне, в ожидании чего-то, может быть, вот этой своей и его улыбки, будто ждала последней секунды, как тогда ночью в мансарде, где горела свеча на столе, светлела майская ночь за окном, а она, обреченная, смаргивая и задерживая слезы, выводила на листе бумаги русские буквы, зная, что это — последнее…
«Странно, — подумал Никитин с туманом в голове, — она сейчас взглянула на меня так, будто откуда-то издали напомнила вот одним этим взглядом, что мы прощались тогда и оба не надеялись ни на что, но вот все же случилось необъяснимое, маловероятное… Нет, оказывается, я ничего не забыл. Или мне кажется, что я ничего не забыл, и я только внушаю себе, что помню ее лицо, брови, губы в ту ночь… Нет, я помню, как дрожали ее губы, как они были мягки, солоноваты, смочены слезами… как она не хотела уходить… как она готова была упасть на пол вместе со мной… как пахли ее волосы сладковатым туалетным мылом… Так что же это? Эмма — и госпожа Герберт? Госпожа Герберт — и Эмма? Осталось ли в ней что-нибудь от того, прошлого? И остался ли во мне тот давний и небезгрешно решительный лейтенант Никитин? Да немыслимо, немыслимо все!..»