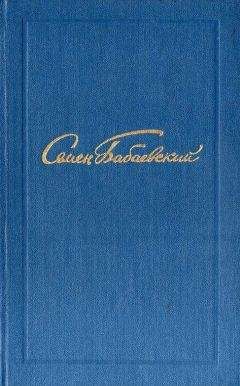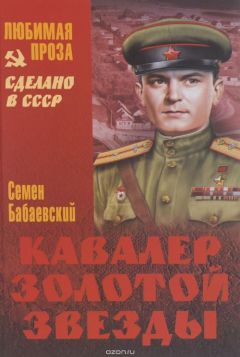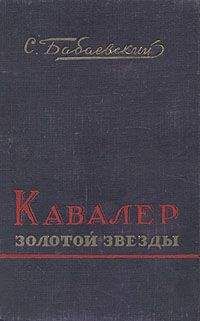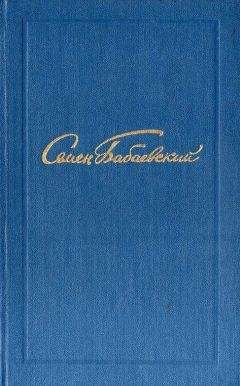Семен Бабаевский - Свет над землёй
Снова смех в классе.
— Хорошо, пойдемте дальше. — Виктор посмотрел в темный угол, на чубатого парня и на его соседок. — В-третьих, нам нужны приборы для измерения мощности электрического тока. Из беседы мы узнали, что мощность в цепи постоянного тока равна произведению силы тока на напряжение, а поэтому ее можно определить по показаниям амперметра и вольтметра. И еще нам нужен прибор для измерения количества израсходованной энергии. Допустим, что в течение месяца в колхозе «Красный кавалерист» работали механические кузницы, электродойки, пилорама… Как же нам узнать, какое количество электрической энергии мы израсходовали?
Почти все курсанты подняли руки.
— Могу я ответить! — послышался слабый голос Хворостянкина. — Такой приборчик уже висит у меня в доме.
— А как же он называется?
— Называется просто — учетчик.
— Это у тебя в конторе учетчики!
— Счетчик!
— А какие счетчики бывают?
— Тише! — Грачев постучал по столу. — Кто еще не успел записать? Все записали? И Игнат Савельевич? Хорошо… Тогда советую до следующего нашего занятия повнимательнее прочитать книжку Златковского и Шустова, — она у вас есть…
После занятия, выходя из школы, Игнат Савельевич Хворостянкин взял Виктора Грачева под руку и угостил папиросой.
— Виктор Игнатьевич, — заговорил Хворостянкин, когда они вышли за ворота, — на эту ночь прошу ко мне, буду очень и очень рад. Жене дано задание — изготовиться и быть на часах. По этой домашней причине я малость припозднился… Но записи успел сделать, это я смог.
— А мне все равно, у кого ночевать, — с грустью в голосе ответил Виктор. — С помощью моего друга я уже привык к такой скитальческой жизни, и, вы знаете, кажется, она мне на пользу. А далеко ваш дом?
— Не очень. Через три переулка, на четвертом. — Игнат Савельевич с таким старанием топтал мерзлый снег, что под подошвами его больших сапог сухо потрескивал мороз. — Виктор Игнатьевич, прошу тебя по-товарищески… Ты хотя человек беспартийный, но меня ты поймешь…
— А в чем дело?
— Да, понимаешь, прошу тебя — ты меня не очень спрашивай на людях: человек я стеснительный, и тут еще, понимаешь, как руководителю, необходима настоящая авторитетность, — это же всякому понятно.
— А мне непонятно, — чистосердечно признался Виктор. — Если я вас не буду спрашивать, то как же я смогу дать оценку вашим знаниям?
— Да ты спрашивай, не давай мне никакой пощады, только не на людях, а так, со мной один на один. На людях, понимаешь, лучше обойти… — Хворостянкин приостановился. — А вот и мой домишко. Прошу в калитку… Сядем за стол и я тебе все поясню, так сказать, с нужных позиций… Антонина Федоровна, открывай!
Прерванный у калитки разговор не возобновлялся. Игнат Савельевич угощал гостя настойкой, приглашал закусить жареной в сметане курятиной; сам и пил и ел охотно, поглаживая замасленные усы, и рассказывал о погоде, о значении снегозадержания, о зимовке скота, об охоте на волков.
— Да, Виктор Игнатьевич, если присмотреться, — сказал он, — то можно заметить — жизнь у председателя хлопотная… Сколько разных беспокойств, нервы трещат! А тут еще, как на грех, не везет мне с партийным руководством. Изберем одного секретаря партбюро, только привыкнет к делам, поймет и уяснит мою хозяйственную линию, тут бы только и работать дружно, — ан нет! Забирают, переводят. Так случилось и с Татьяной Нецветовой.
— А что с ней? — спросил Виктор.
— Да разве ты не слыхал? А-а! Да, я и забыл: ты беспартийный! Ну, ничего, я тебе поведаю, тут никакого секрета нету! Позавчера на районной партийной конференции Татьяну Николаевну избрали секретарем райкома.
— А Кондратьев? — удивился Грачев.
— Да нет же, не первым, — Хворостянкин даже сочувственно покачал головой, — и не вторым, а просто секретарем. Наш второй секретарь Петр Петрович Кучеренко уехал учиться — умнейшая была голова! Так теперь вторым избран Алдахин Павел Степанович; был он до этого просто секретарем, а на его место утвердили Нецветову… Эх, беда! Всем радость, а Хворостянкину опять горе.
— Игнат, — вмешалась в разговор Антонина Федоровна, — а давно ли ты проклинал Татьяну Николаевну — она тебе жизни спокойной не давала! Разве забыл?
— Помню, помню… А потом она мою линию все же уяснила.
— А может, не она твою, а ты ее линию уяснил? — спросила жена.
Хворостянкин тяжело вздохнул:
— То все одно… А теперь она секретарь райкома, тоже надо понимать!
— Ох, смотри, будет она тебя еще гонять, попомни мое слово. — Поглядывая на Виктора, Антонина Федоровна добавила: — Теперь она и совсем жизни тебе не даст.
— Тоня, а ты в это дело не вмешивайся. Побеспокойся насчет чайку. — Хворостянкин наклонился к столу. — Виктор Игнатьевич, вот к этой славной куриной ножке присовокупи огурчик — не пожалеешь!
38
Поднявшись из-за стола, Хворостянкин сказал жене, что гость за день намаялся, пора ему и на отдых. Антонина Федоровна проводила Виктора в соседнюю комнату, где постель была уже готова, и, пожелав спокойной ночи, вышла.
«Вот тут я один полежу пораздумаю. Что-то неспокойная стала у меня голова», — размышлял Виктор, снимая пиджак и вешая его на спинку стула.
Не успел Виктор раздеться и подлезть под толстое прохладное одеяло, как вошел хозяин дома, уже в одной нательной рубашке и с расстегнутым на брюках поясом. Поставив поближе к кровати стул, он уселся, положил на колени широкие ладони, — на суставах пальцев пучками росли рыжеватые волосы.
— Так я, Виктор Игнатьевич, не досказал свою мысль, — начал он, рассматривая свои пальцы, — а досказать должен. Да, так в чем же моя главная мысль? — сам себя спросил Хворостянкин и выжидающе посмотрел на Виктора. — Всякая учеба, если на нее смотреть с определенных позиций, дело, конечно, хорошее, нужное. Но притом же, если вдуматься, то зачем вся эта электрическая премудрость хлеборобу, одним словом, тому человеку, каковой знает свое дело — растит хлеб? Я понимаю так…
— Да что же тут понимать? — перебил Виктор. — Хлебороб-то другой стал — вот и весь ответ.
— Погоди… Это еще не факт… Техника растет — верно, и учеба идет людям на пользу, а особенно тем, кому поручено ведать электричеством, по столбам лазить… Ну, а мне, как руководителю, от которого требуется идейность, скажи — мне для чего забивать голову электричеством? Разве у председателя других дел или забот нету? Есть, и немало! И разве в том моя сила! Мне надо знать то, как провести заседание правления, как с народом поговорить, там речь или какой доклад произнести, или как дать верное направление тому или иному вопросу… Вот в чем сила председателя колхоза… Без беленьких чашечек он обойдется, а вот без твердости в руководстве, без того, чтобы давать направление основной линии…
— Вот уж с этим я несогласен, — не выдержал Виктор. — Какой же это руководитель, если он технически слепой…
— Нет, дорогой товарищ, ежели председатель не умеет возглавить массы, то ни ампельметры, ни вольтельметры ему не помогут. Ему подавай политическую подкованность…
— Тогда я не понимаю, — глядя в потолок, проговорил Виктор, — зачем же посещаешь курсы?
— Партийная дисциплина.
— А зачем двурушничаешь?
— Ай, шутник, ей-богу! — Хворостянкин рассмеялся хрипло и с кашлем. — Ну, шути, шути… Вижу, у тебя голова уже не работает… Отдыхай, поспи, а завтра мы продолжим нашу беседу.
Виктор повернулся на бок, натянул одеяло на голову и, ощущая на груди свое теплое дыхание, хотел уснуть, но не мог. Самочувствие было скверное, голова разболелась. А отчего? Кажется, чего бы еще? И вкусный ужин с вишневой наливкой, и чистая постель, в которой он уже согрелся, и разговорчивый Игнат Савельевич, — словом, все в этом доме должно было только радовать и приносить успокоение. Но ничего этого не было, и Виктор, ворочаясь в нагретой постели, не мог понять: почему же после такого трудного дня нет сна и почему вместо радости на сердце у него лежали тревога и тоска?
Да, конечно, в двух словах ответить на этот вопрос было бы нетрудно, ибо Виктор понимал — всему виной явился разговор с Хворостянкиным; а вот почему именно этот разговор нагнал такую тоску, причинил душевную боль и вызвал бессонницу, — этого он объяснить себе не мог.
«Ну хорошо, — думал Виктор, глядя на белевшее в темноте окно, — Хворостянкин человек недалекий, и все, о чем он тут молол, исходит не от ума, а от зазнайства и высокого самомнения, — это видно даже невооруженным глазом. А мне-то какое дело и до Хворостянкина, и до его изречений? Коммунист, а рассуждает похлестче всякого обывателя. К сожалению, такие экземпляры еще существуют и переведутся, видимо, еще не скоро. Но мне-то до всего этого какое дело? Почему я стал его поучать, злиться, доказывать? Ого, да я уже, кажется, вхожу в роль моего друга детства… Вот бы Сережа послушал, как я тут поучал этого усатого дядьку… Ну, спать, спать, а завтра снова качаться в седле… Степь в снегу безмолвна, а среди этой степи Виктор Грачев на коне один, как птица… Спать, спать…»