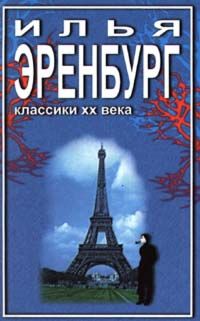Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
Не правда ли, смешные слова? Пожалуй, те дамы, которых наивная Жанна остановила как-то на улице, подхватили бы их: ведь это забавный анекдотец. Не угодно ли, какие они идиоты, эти большевики! Пожалуй, и в «Гудке» бы не напечатали: какая там, мол, душа? Божья коровка, наверное, прочла слишком много духовных книг. У нее выспренний стиль. Но это большая и твердая правда! За это умирали. Три года с голоду пухли. За это. Были книги, много книг, как у Жюля Лебо. А вот теперь: осуществимость. Надо понять эту ненависть к словам, этот страх: только бы не подделали.
Андрей говорил взволнованно, залпом. Он верил теперь в революцию, верил, как никогда. Он переживал день за днем: октябрь, пулемет на Арбате, победу, снова бои, голод, сыпняк, весь черный и голодный пафос тех лет. Он слышал — за окнами, где пыхтели одутловатые паровозы, где костылями выстукивали чечетку инвалиды победной войны, где в ресторане «Лавеню» заметали окурки и плевки прослушавшего сюиту Халыбьева, — он слышал там подступ, приближение, легкий холодок той, чье имя даже не произносится, как некогда имя Иеговы, которую зовут одним прилагательным «la sociale». Андрей говорил о ней. И Жанна, привстав, повторяла:
— Да. Да. Да.
И кажется, вся комната, жалкая дыра, привыкшая только к издевкам, к храпу и к хрипу, полнилась теперь поступью ног, большим сквозняком, жестким светом борьбы, горечью, крылатым гомоном победы.
От этого им захотелось сейчас же куда-то бежать, смеяться, шуметь, скорей окунуться в еще полусонный город, который едва дышит первыми возами огородников, который лениво приподымает железные веки булочных и молочных. Они оба почувствовали это одновременно и, не сговариваясь даже, вышли из комнаты. Спускаясь по темной лестнице, они смеялись. Трудно объяснить, почему именно они смеялись. Может быть, они радовались рассвету? Ведь смеется же, встречая солнце, на свой, на петушиный лад каждый уважающий себя петух. В темноте долго они разыскивали оконце с бодрствующей рыжей дамой. Андрей сказал Жанне:
— Знаешь, я тебе завидую: ты, наверное, через две недели будешь уже в Москве.
Но Жанна резко схватила его за руку — как раз в эту минуту она услышала рядом чье-то дыхание. Жанна ведь теперь должна была думать и за беспечного Андрея.
Наконец они нашли окошко. Рыжая дама, разумеется, сидела на своем посту. Взглянув на стенные часы, она деловито сказала:
— Хотя вы уже уходите, я должна считать с вас, как за всю ночь. Теперь пятый час, больше никто не придет. А вы ведь здесь с десяти.
Тогда они обрадовались, что на лестнице темно и что рыжая дама их не видит. Они направились к двери. Но Андрей натолкнулся на какую-то, взвизгнувшую при этом женщину. Он извинился и зажег спичку. Из его рук вылетел маленький свет.
Сколько может гореть спичка? Минуту, да и того меньше. Андрей ничего не заметил, кроме женщины и двери, которую он искал. Но Жанна успела оглянуться. Зачем она оглянулась? Ей не следовало бы оглядываться! Возле оконца стоял человек. И, увидав этого человека, Жанна вся задрожала. Он узнал ее. Он услышал слова хозяйки: «Ведь вы же здесь с десяти». Это он украл записку Андрея. Это он караулил их.
Человек, для которого эта встреча, по-видимому, была тоже не из приятных, быстро руками закрыл лицо. Какая тщетная уловка! Жанна могла бы и не узнать его лица, но руки… Разве можно, хоть раз увидав, забыть эти руки?
Когда они вышли на улицу, Андрей заметил, что Жанна чем-то взволнована.
— Жанна, что случилось?
Жанна не сразу ответила. Она оглянулась: нет, за ними никто не шел. Тогда, несколько успокоенная, она сказала:
— Ничего. Право же, ничего. Просто я увидела там человека с отвратительным лицом, то есть не с лицом, с руками.
Андрей ласково улыбнулся:
— Какая же ты нервная. Успокойся. Погляди на меня. Ты помнишь?.. Ну улыбнись!
Жанна поглядела. Жанна все помнила. Жанна улыбнулась. Она больше не думала о страшных руках.
Они шли и радовались раннему часу. Хорошо всегда так рано вставать, раньше всех. Париж совсем другой при дневном свете и без дневной суеты. Это новый Париж. Лавки заперты. Дома серьезны, просты и милы. Без витрин они, как разгримированные примадонны, которые в капотах нянчатся с детьми. Дома еще в домашнем мягком платье.
Кроме того, это час птиц. Им никто не мешает петь. Конечно, воробью или даже дрозду трудно перекричать автомобиль. А сейчас автомобилей нет и птицы поют вволю. Оказывается, в Париже очень много птиц. Оказывается, в Париже также очень много деревьев. И деревьям тоже никто не мешает дышать. В этот час город пахнет не бензином или прованским маслом кухмистерских, но морем. Легкий ветерок напоминает редким пешеходам: отсюда рукой подать до моря. А море чудесная вещь: там просторно, там много омаров.
Они дошли до главных рынков. Здесь было людно. Под сырыми сводами уже лежало все, что только могут проглотить в течение одного дня двадцать полицейских округов Парижа. Ветер не обманывал парижан: море было близко и в море было много омаров. Они находились здесь же, неодобрительно пошевеливая генеральскими усами и вытаращив свои самостоятельные глаза. Омары чрезвычайно походили на какого-то знаменитого маршала, не то на Жоффра, не то на Фоша, не то на обоих. Рядом с омарами покоились большущие рыбы: угри, напоминавшие пронырливых спекулянтов, камбала, казавшаяся заплывшей жиром рентьершой, и горы безобидных устриц. В стороне дремали любимицы покойного господина Раймонда Нея — первосортные улитки. Увидав их, Жанна невольно поморщилась.
В другом ряду лежали овощи. Ведь не одно море близко от Парижа. Коротель свидетельствовала о нежности зари. Артишоки пыжились и дулись. Был полон свежести глубокого утра обрызганный водой светло-зеленый салат.
Торговки ели суп и грели над дымившимися чашками озябшие пальцы. Андрею и Жанне никто не предложил ни омаров, ни артишоков. Вероятно, они не походили на солидных покупателей. Но как только они попали в цветочный ряд, торговки заверещали: «Фиалки, пармские фиалки, гиацинты, мимозы, подснежники, анемоны, десять су, двадцать су, покупайте у нас, у нас!»
Как видно, двадцать полицейских округов Парижа не довольствуются камбалой или бобами. Они должны каждый день пожирать целые горы цветов. Цветы были сдавлены в большие квадратные тюки. Цветы продавались оптом. Их было много, разных ярких, пахучих цветов. Ползкие путаные орхидеи, эти арабески, выдуманные каким-то декадентом, продавались поштучно. До вечера они стыли в витринах цветочных магазинов улицы Рояль, пока их не покупали подагрические финансисты, хотевшие этим показать своим содержанкам всю утонченность и возвышенность финансистских сердец. Усатые торговки со скрипучими тачками брали предпочтительно дешевый товар: анемоны или же душистый горошек. Они везли эти цветы на окраины Парижа. Они делали из них крохотные букетики: ведь бедные тоже любят цветы, может быть, только они их и любят. Кто знает, сколько поцелуев рождалось в предместьях лишь от того, что душистый горошек и вправду был душистым? Даже на проклятую улицу Тибумери заезжали эти милые усатые торговки. Недипломированный провизор, натыкаясь кривым глазом на скромные фиалки, мечтательно вздыхал. Да, это вовсе не сентиментальное предположение, это правда, это знают все обитатели улицы Тибумери: даже кривому провизору нужны были цветы, не говоря уже о настройщике роялей.
Вступив в цветочный ряд, Андрей и Жанна оторопели. Им ведь никто не обещал сада, а они попали в сад, в самый сказочный сад. После мучительного зловонья рыбы, после вялого духа бычьих туш, они захлебывались теперь густыми запахами гиацинтов и резеды. Среди всех этих запахов был один горьковатый и в то же время сладостный. Услышав его, Андрей вздрогнул и остановился. Так пахла комната в отеле на улице Одесса. Нет, комната ничем не пахла, или, может быть, она пахла сыростью и мышами. Но была одна минута, когда, целуя плечо Жанны, узкое смуглое плечо, он услышал этот запах. Теперь он удивленно оглянулся. Жанна протягивала ему цветы, купленные у торговки. Это были ее любимые цветы. Это была мимоза, сухая и теплая. В ее желтеньких шариках еще дремало средиземное солнце. И чем дольше он нюхал эту ветку, тем все яснее и яснее переживал минуту, одну минуту в отеле на улице Одесса. Может быть, эта минута была часом. Может быть, она была двумя или тремя часами. Об этом, вероятно, знали большие стрелки на церкви Монпарнас. Андрей же знал одно: он слишком мало целовал смуглое плечо. Значит, это была минута, одна коротенькая минута. И Андрею страшно, до ребячества, до безрассудства захотелось поцеловать Жанну. Вот сейчас…
Они стояли возле старенькой церкви Сент-Этьен. Они зашли в нее. Они не собирались молиться. Они сами не знали, почему они зашли в церковь, как не знали, зачем перед этим забрели смотреть усатых омаров. В церкви было пусто. Только какая-то почтенная лавочница стояла на коленях перед каменной статуей Святой Девы. Впрочем, для коленопреклонения лавочница выбрала место, покрытое ковриком. В этом не было греха: сукно стоит дорого, никак не меньше тридцати франков за метр, а Святая Дева любит аккуратность.