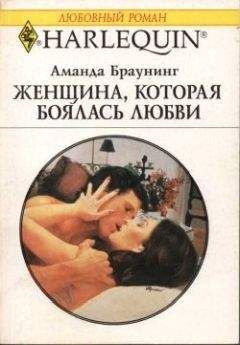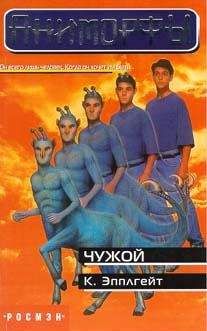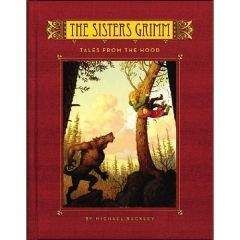Сергей Снегов - В поисках пути
Прохоров подошел вплотную к Красильникову и проговорил сдавленным голосом:
— Я не причинял тебе зла, не ври! Лучше поблагодари меня за добро!
— Благодарить за то, что ты отбил у меня жену?
— Я не отбивал Маришу. Если хочешь знать, я долго колебался, стоит ли нам сходиться. Она доказала мне, что стоит, ибо три несчастных человека станут счастливыми.
— Очень интересно! Значит, и я сопричислен к сонму трех счастливцев?
— Пойми меня, по-честному пойми! Ты не сумел сделать ее счастливой, рано или поздно, был бы я или не был, вы разошлись бы, просто так, в стороны… Почему же ты меня одного делаешь ответственным за то, что не удалось в тебе самом? От хороших, от любящих и любимых людей жены не уходят, нет! И ты это знаешь, и я это знаю. Вот, ты не решаешься смотреть мне в глаза, ты молчишь!
Красильников не отвечал. Сотни раз за эти месяцы одиночества он возвращался мыслью к своей неудавшейся любви, каждый раз оценивал ее по-иному. Об этом нельзя было говорить. Это было слишком больно.
11
Печь поставили на однодневный ремонт. Механики меняли гребки, печники латали своды и стены, за ними наблюдал Прохоров. Лахутин воспользовался суточным отдыхом, чтоб пойти на охоту. Он предложил Красильникову составить компанию. Тот и без Лахутина убрался бы в этот свободный день подальше от города, все, в нем ныло от желания поваляться на вольной земле, в компании прогулка была веселее.
На рассвете они — Лахутин с ружьем и рюкзаком за спиною, Красильников с чайником и котелком — прошли территорию завода и подобрались к подножию горы Барьерной. Небо было забито темными тучами, земля — сера и тверда. В утренней сводке местного метеобюро говорилось о значительном колебании давления и перемене погоды.
— Перекурим, — предложил Лахутин, усаживаясь на камень.
— Пойдем! — потребовал Красильников. — Разве на ходу ты не можешь курить?
Лахутин был человек покладистый. Он понимал нетерпение Красильникова. Нужно было скорее взобраться на водораздел и оставить город позади.
Подножие Барьерной прикрывал низкорослый лесок — кривая березка, кустарниковая ольха, крохотная лиственница. Это был северный склон, лес здесь не удавался. Ныне это был мертвый лес, сернистые выделения завода опалили его, как дыхание дракона. Внизу, на гладкой площадке, проложенной среди холмов, клокотали огненными пастями ватержакеты, конверторы, агломерационные и обжиговые печи, тяжелый дым клубился над ними. Древний, давно заглохший в этих местах жар земли, оживленный искусством человека, бурно вырывался наружу — слабая жизнь растений беспомощно поникла перед ним. Красильников стремился за горный барьер, в ненарушенные леса.
Вначале подъем происходил в тишине, потом с вершины скатился встрепанный ветер. Березки и лиственницы заметались, забормотали сухими голосами. Красильников лез в их частокол, ломал и гнул очерствевшие стволы. Лахутин отстал. Красильников поджидал его, подставив ветру лицо.
Нет, это была настоящая осень, именно такой он жаждал: румяной и мускулистой, как деревенская девка, стремительной, как озорной мальчишка, жестокой осени, вдохновенной осени! Боже, как он тосковал по ней в своем дымном цехе, как ему не хватало ее! Вот она клубится низкими тучами, покачивается кронами лиственниц, то сонно шелестит травою, то дерзко громыхает ветром в пустынных скалах. Здравствуй, осень, сердце мое, сейчас я побегу с тобой наперегонки, размахивая руками как крыльями!
— Чего ты как пьяный? — спросил Лахутин, выбравшись на вершину и с удивлением всматриваясь в возбужденного товарища. — Или нездоров?
Красильников счастливо рассмеялся. Он очертил рукою горизонт, охватил землю с запада до востока.
— Павел Константинович, посмотри, какая красота! А воздух! Неужели на тебя не действует?
— Воздух звонкий, — подтвердил Лахутин. — А красиво. Точно!
Он встал рядом с Красильниковым на обрыве; в чаше, образованной древними горами, лежали город и заводы, полустертые завесой дыма. Там, на городских улицах, дым не ощущался, глаз его не улавливал, нос не чувствовал. Но отсюда он казался шаром, замкнувшим в себе возведенные человеком здания.
— Такой пакостью каждодневно дышим, скажи пожалуйста! — проговорил Лахутин. — Пойдем, Степаныч, лучшее время пропускаем. То козликом мчался наверх, то замер, будто завороженный.
Они двинулись по плоской вершине горы через водораздел двух речек, проложивших неширокие долинки в этом горном краю, Вершина была нага и валуниста. Зеленоватая щебенка диабаза прерывалась ребрами монолитных скал, на ровных площадках встали неодолимые препятствия, их надо было обходить. Красильников много раз пролетал над Барьерной, с самолета она была похожа на лицо, изрытое оспой и морщинами. В этих местах всегда дуло, воздушные потоки образовывали пыльные вихри. Ветер налетал, толкал в спину, леденил щеки. Тучи неслись с запада на восток, низкие и густые, они чуть не задевали за гору. Красильников казалось, что если как следует разбежаться, то, подпрыгнув, можно уцепиться за их рваные края, а дальше они понесут сами через вершину до обрыва во вторую долинку. Он хохотал, вскакивал на камни и прыгал вперед. Лахутин тоже смеялся. Осень овладела и им, убыстрила кровь и спутала мысли, весело и крепко влепила коленкой под зад — нужно было лететь без оглядки, чтоб не упасть. Все кругом шумело, надрывалось, куда-то стремилось: тучи, ветер, пыль, камни, Красильников — нельзя было отставать.
Через некоторое время Лахутин попросил:
— Передохнем, Степаныч, ноги гудят, как колокола.
Красильников стоял около Лахутина: его кашне развевалось, опущенные уши шапки хлопали по щекам. Лахутин услышал, как он что-то бормочет.
— Нет, так, — сказал Красильников. — Это я себе. Вспомнились детские мои стишки. Я ведь мечтал стать поэтом, но таланту не хватило.
— Читай вслух, — решил Лахутин. — Стих не песня, за душу не ковырнет, но и отдыху не помешает.
Красильников помнил только куски. Это была сумбурная баллада, начинавшаяся словами:
Я умирал, я рождался —
Сто раз я рождался на свете…
Бежал, заплетался,
Рыдал обезумевший ветер…
— Молодец, что бросил стихи, — одобрил Лахутин, поднимаясь. — Рождаются только раз, да и то не всегда к делу. С печью у тебя ладнее получается. Потопаем, однако.
Затем открылся обрыв. В логове лысых гор извивалась речка Рыбная, по ее берегам щетинился золотой лес, рослые деревья, не полутундровая рахитичная растительность Куруданки. Красильников хотел полюбоваться новым пейзажем, но Лахутин настоял на немедленном спуске. Спуск был труден и опасен. Многометровой толщины диабазовые осыпи колебались под ногами и приходили в движение. Камень тек вниз, как река, он увлекал с собою упиравшихся людей. Красильников первый покорился камню. Он уселся на осыпь и полетел вместе с ней в долину. Слоистый щебень шипел и трещал. Изредка мимо Красильникова пролетали выстреленные осыпью осколки, в эти мгновения он со страхом думал о том, что следующий обязательно попадет ему в голову.
Диабазовый поток рассыпался у подножия горы отдельными каменьями. Здесь стеной поднимался лес, камни ударяли в деревья. Лиственницы вздрагивали и качались, облаком рассеивая хвою. Красильников, вскочив, опрометью кинулся в лес: сверху продолжали нестись куски диабаза. На него налетел Лахутин, они несколько секунд барахтались, пытаясь скорее подняться и убежать подальше. Осыпь, отраженная цепью деревьев, глухо ворчала, угомоняясь. Красильников от души расхохотался, увидев засыпанное пылью и хвоей лицо Лахутина. Но тому было не до смеха: один из шальных осколков угодил ему в плечо.
— До свадьбы заживет, — успокоил Красильников, оттянув воротник и заглянув под рубаху. — Синячок, конечно, будет, не больше.
— Если до свадьбы, так золотой, — ворчал Лахутин. — Серебряную мы прошлой весной отплясали. — Он закончил жалобы практическим выводом: — Обратно пойдем кругом Барьерной. Хватит с меня скачек на каменном коне.
Теперь дорога шла через лес. Это было царство лиственницы. Оранжевый прозрачный лес праздновал свое умирание. Он сиял и осыпался, хвоя плыла в воздухе, устилала землю. Ветер, падавший с горы, здесь терял свою скорость; он тихо ворчал у реки, крался на мягких лапах сквозь чащу, глухо покачивал пиками лиственниц.
Красильников заметил впереди красный холм и направился к нему. Холм вздымался шапкой пламени среди светлой желтизны леса. Склоны его были усеяны кустиками голубики, они-то и создавали окраску. Продолговатые синие ягоды, похожие на большие капли, густо висели под малиновыми листьями. Стоило наклонить кустик или схватить его в охапку, как красный блеск потухал, вспыхивали голубые полосы и пятна. Красильников бросил наземь котелок и чайник и сказал Лахутину: