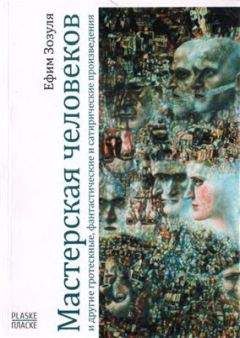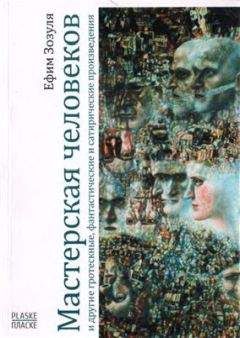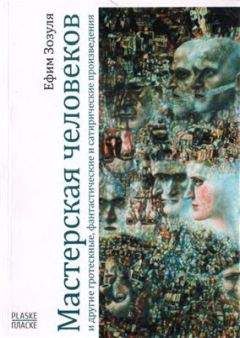Ефим Дорош - Два дня в райгороде
Весь вечер, пока мы сидим у Василия Васильевича, я думаю об Иване Федосеевиче. Я представляю себе еще покрытую снегом землю, белеющую в темноте, черные перелески, едва видную ночью дорогу, по которой, запахнув потуже шубу, едет в санях мой приятель. Ночной апрельский морозец схватил раскисшую днем дорогу. Полозья то соскальзывают с бугра в обледенелую колею, то проламывают тонкий лед и движутся в воде, набежавшей за день в неглубокую ложбину. В иных местах, где земля обнажилась, лошадь еле тащит сани по окоченевшей грязи, и тогда седок с возницей соскакивают, шагают рядом с санями. Вокруг ни огонька, только смутно белеющий снег и черные пятна. Пахнет весенним морозцем, соломой, лошадью. И так часа четыре, пока не виден станет впереди фонарь сельской лавки в Угожах и стоящая в туманном его свете райкомовская «Победа».
Не я один думаю об Иване Федосеевиче, —о чем бы мы ни говорили, кто-нибудь из нас обязательно вспомнит его. Мне начинает казаться, что Василий Васильевич, и всегда-то любивший поговорить о своеобычности любогостицкого председателя, видит теперь в нем своего помощника и даже в некотором роде учителя. Будучи дипломированным специалистом и человеком сравнительно молодым, Василий Васильевич хотя и считал Ивана Федосеевича личностью яркой, талантливой, однако относил его к разряду людей, характерных для вчерашнего дня нашей деревни. Теперь он вдруг соглашается, что такие вот председатели, колхозные Чапай, как о них говорят, владеют большим, причем именно колхозным, а не просто крестьянским, хозяйственным опытом, досконально знают все обстоятельства народной жизни, ход мыслей народных, отличаются партийной принципиальностью. Одной фразой своей, одним этим «Братцы, Бирме помогаем, а вы сергиевским мужикам не хотите помочь!» Иван Федосеевич сделал то, чего не смог сделать длинной речью иной ответственный товарищ из района. Мне хочется думать, что секретарь райкома неспроста запомнил эту фразу, несколько удивленную и чуть укоризненную интонацию, с какой она была произнесена.
Василий Васильевич рассказывает нам, что райком если посылает сейчас кого-нибудь с поручением в колхоз, так старается послать председателя или бригадира, вроде Ивана Федосеевича. До сих пор почему-то практиковалось, чтобы колхозников учили крестьянскому делу заведующий сберкассой, аптекарь или весьма юный, хотя и начитавшийся брошюр инструктор.
Во всем этом я вижу то новое понимание колхоза, колхозника, какое выводится мною из нового определения существа колхозной собственности, данного партией. Единоличного крестьянина, который был мелким собственником, колхозника начала тридцатых годов, владевшего лишь во много раз увеличенным крестьянским двором, могли учить и успешно учили тот же заведующий сберкассой, выражаясь фигурально, тот же начитанный инструктор. Но Иван Федосеевич, в колхозе у которого, вдобавок ко всему, будет сейчас десять или двенадцать тракторов, он и сам уже способен кое-чему научить. Мне представляется правильным, что он ездит теперь по колхозам не только с лекцией об откорме свиней или осушке болот, — это и прежде было и сегодня полезно делать, — а в качестве представителя райкома, облеченного всеми необходимыми полномочиями.
Близко к полночи мы покидаем дом Василия Васильевича.
* * *Утро второго дня в Райгороде встречает нас дождиком.
Михаил Васильевич Грачев, хозяин дома, где мы остановились, замечает, что дождик этот, как говорят старики, снег ест. Михаилу Васильевичу лет семьдесят пять, но «старики» — это не он, а те, у кого он с отроческих лет учился разуму. Даже и старому человеку трудно сказать о себе «старик».
После чая мы отправляемся к Ивану Федоееевичу в Любогостицы.
Интересно, что из всех моих здешних знакомых только Иван Федосеевич — крестьянин, Михаил Васильевич — бывший уездный мещанин, да еще Сергей Сергеевич — потомственный интеллигент, — что только они произносят название этого села с ударением на втором «о» — Любогостицы, и это звучит, мне кажется, очень по-русски. Все остальные, кого я знаю или слышал когда-нибудь, выговаривают торопливо: «Любогостицы».
Перед городской пожарной частью моет машину райкомов-ский шофер, пожилой угожский крестьянин Петр Николаевич. Он останавивает нас, степенно здоровается, заметив, что машина у нас новая, принимается ее осматривать, скорее, впрочем, из вежливости, из своеобразного представления о хорошем тоне, чем из любопытства. Делает он это, я думаю, точно так же, как делал его отец, повстречав знакомого мужика на новой лошади, — мне все чудится, что он зубы смотрит у нашей «Победы?.
Похвалив машину, Петр Николаевич не то спрашивает, не то утверждает: «К дружку собрались!» Он говорит, что нынче ночью отвозил Ивана Федосеевича домой: «Вон как машину изваракал!» Затем он доверительно сообщает, что Иван-то наш такую, мол, штуку выкинул: сорок пять тысяч своих денег в колхоз отдал. Полагалась ему премия с годового дохода — шестьдесят тысяч… так он взял и сказал на собрании, что от трех четвертей премии отказывается. «Силен мужик! — восхищается Петр Николаевич и добавляет не без некоторого хвастовства: — Наш, угожский!»
Мы уже с Андреем Владимировичем слышали об этом случае и сейчас, пока едем в Любогостицы, вспоминаем некий давний эпизод, который в свое время показался нам забавным, а теперь, когда мы сопоетавили его с только что рассказанной нам историей, обернулся несколько другой стороной, вернее, помог понять кое-что в характере нашего друга.
Было это года три назад. Иван Федосеевич озабочен был тогда постройкой дороги, которая соединила бы Любогостицы с другими селами колхоза. В ту нашу встречу мы собрались пообедать вчетвером на райгородском вокзале — с нами еще был довольно известный московский литератор. И вот за обедом Иван Федосеевич стал вдруг говорить, что прежде, бывало, писатели строили по деревням школы, больницы, дороги». Кто-то из нас с некоторой назидательностью сказал, что да, в те времена, при царизме, правительство не заботилось о народе, приходилось это брать на себя отдельным передовым людям, хотя благотворительность ничего не могла изменить, и сейчас обо всем этом даже вспоминать как-то смешно, когда наше Советское государство… «Почему же смешно! — возразил Иван Федосеевич. — Худо ли, если бы какой-нибудь знаменитый писатель построил нам дорогу!.. А то. все государство да государство…» При этом он, как нам показалось, хитро поглядел на нашего гостя, и мы тогда заподозрили его в желании поддеть, разыграть известного литератора.
Но вот сейчас, вспоминая тот разговор, сопоставив его с недавним поступком Ивана Федосеевича, мы вдруг поняли с Андреем Владимировичем, что не благотворительность видит наш друг в такого рода действиях, а естественные отношения между социалистическим обществом и гражданином.
Андрей Владимирович говорит: «Идейный коммунист!»
Этим словосочетанием, которым в годы революции беспартийные выражали свое уважение к истинным большевикам, только и можно объяснить цельность Ивана Федосеевича, совпадение у него слова с делом.
Мы говорим о почти детской прямоте любогостицкого председателя.
Лет шесть назад, когда один из незадачливых здешних руководителей с приятельской доверительностью рассказал нашему другу, что его приглашают в область, на весьма видную, но, как говорится, не очень «пыльную» работу, тот ему откровенно сказал: «Иди, дружок, пока чистый, а то завалишь у нас дело, нахватаешь выговоров, кто тебя тогда возьмет!»
Когда мы въезжаем в Любогостицы, дождик перестает.
Иван Федосеевич хлопочет возле самовара: заваривает чай, подняв крышку, опускает в самовар чистую холстинку с яйцами… Он выкладывает на тарелку длинные пупырчатые огурцы из теплицы, от которых в комнате как бы становится солнечно, по-весеннему празднично. Об огурцах он говорит, что и за деньги почти ничего не берет в колхозе, так как иному покажется, будто председатель, имея большую власть, даром все тащит, а вот уж в зеленом огурчике не может себе отказать. Он откупоривает бутылку какого-то плодоягодного вина, изготовленного захолустным пищепромкомбинатом, и с обычной своей категоричностью решает за всех: «Белого пить не будем!» Наш друг и вообще-то способен выпить рюмку, две, а сегодня, после трудной ночной поездки и всего только четырех' часов сна, вино, видать по нему, вовсе нейдет.
Впервые я вижу, чтобы Иван Федосеевич так тяжело, по-стариковски, передвигал обутыми в валенки ногами, впервые думаю о нем, что он ведь почти старик. В редких волосах вокруг лысины деревенского книгочия и мудреца, в небритой бороде поблескивает седина. Он вздыхает, словно ему неможется, глядит устало, временами с удивительным в нем равнодушием. Этот его остановившийся взгляд как бы обращен внутрь.
Мне вспомнился рассказ о том, как однажды на пленуме обкома Иван Федосеевич говорил, что колхозам нашим больше четверти века, что за это время многие из тех, кто собирал крестьян в артель, а потом, хотя и были большие трудности, бессменно работал в колхозе, успели уже состариться. И не правильно ли будет, чтобы ветераны колхозного строя — заслуженные наши председатели — обеспечены были пенсией? Людям этим народ наш многим обязан. Это — наша гордость.