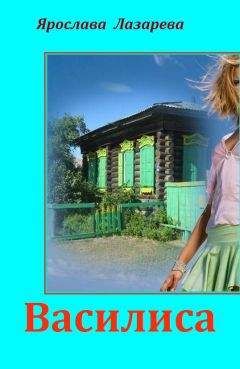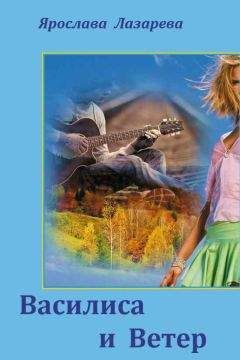Борис Пильняк - Том 4. Волга впадает в Каспийское море
– – это одни задворки – –
– – на других задворках – в притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка – или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных – собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться. В подвалах нищенства людьми командовала российская горькая под хлип гармоники. Бульвары и рынки командовались кокаином. Российский Восток нирванствовал опием и анашой, засаленными нарами эротических снов перед приходом милиции. На задворках этажей и рублевого благополучия, ночами, мужчины в обществах «Черта в ступе», или «Чертовой дюжины», членские взносы вносили – женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. – И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах – было одно и то же: люди расплескивали человеческую – драгоценнейшую! – энергию, мозг, здоровье и волю – в тупиках российской горькой, анаши и кокаина – –
– – на третьих задворках, в Лефортове, расстрига-поп, в заброшенной церкви, ровно в полночь, служил черную мессу, – приход чиновных подонков истерически воздыхал под гнус попа, – поп отрезывал голову черному петуху на обнаженной груди женщины, которая лежала на алтаре – –
– – на четвертых задворках –
– – на пятых задворках –
– –
– – Иван занял номер в «Париже», разложил свой чемодан, в номер его провела, раскрывала постель и наливала ванну расторопная уборщица, кокетливая, ухмыляющаяся, в белой наколке и в неслышных ночных туфлях.
Приняв ванну, Иван вышел на улицу.
Тверская текла людьми и желтым светом, рожки автомобилей подмазывали своими басами шелест толпы. Иван свернул к сини Кремля, пошел вниз подкремлевским садом, прошел под мостом, связывающим Кутафью и Троицкие ворота. Здесь было пустынно, сыро по-осеннему и сторожко. Под ногами шелестели листья. Мрак был холоден.
Ивану следовало бы пройти Тверской до Пушкина, там свернуть бульваром до пролома Богословского переулка и там вникнуть в район студенчества и Бронных, где жили Обопыни, – но Иван пошел другой дорогой. Медленно, наблюдая окрест, он спустился кремлевскими рвами к Москва-реке, пошел под храмом Христа к москворецким плотинам, где Москва-река шумит прибоем. Там Иван долго стоял, прислушиваясь к шуму падающей воды, – с простора омутов заплотиненной воды несло сыростью и мраком. Кремль уходил во мрак, небо над городом было желто-зеленым. Никого кругом не было. Напротив, на конфетной фабрике ночной сторож трещал колотушкой, – с мостов долетали звоны трамваев.
И тогда к Ивану подошли трое.
– Дай закурить, товарищ! – сказал один из троих.
И сейчас же двое других выхватили из карманов наганы, приставили их к лицу Ивана.
Первый сказал:
– Руки вверх! молчать!
Иван – памятью фронтов – понял, что его сейчас убьют. Он поднял руки, чтобы рассчитать действительность. Но первый – ловкостью хорошего портного – расстегнул его куртку, обшаривая – массажистом – тело. Иван понял, что речи о смерти нет, и пассивно успокоился, удивляясь, как безразличны ему эти шарящие по телу руки. Бандит вынул из заднего кармана револьвер, – Иван вспомнил, что этот револьвер был у него десять лет, некогда он отобрал его у раненого немецкого офицера, под Нарочем, – и удивился, как спокойно он отдает его, старого друга. Бандит расстегнул пуговицы, шарил и ощупывал совершенно виртуозно. Бандит снял кепи с Ивана, швырнул свою фуражку за гранит набережной в воду и надел кепи Ивана на себя. Два дула револьвера были все время перед лицом Ивана, мешая ему видеть.
В кармане у Ивана, еще от поезда, по рассеянности, осталась никелированная мыльница: бандит вынул ее и не мог раскрыть, – Иван вспомнил, как перед Москвой он ходил мыть руки, и не припоминал сейчас, как засунул мыльницу в карман.
Бандит сказал:
– Что это такое?
– Мыльница, – ответил Иван.
– Открой! – сказал бандит. Иван открыл.
– Зачем мыло носишь с собою?
– Я приезжий.
– Где служишь?
Иван затруднился ответить сразу на этот вопрос (если бы его спросили – кому служишь? – он ответил бы сразу: – революции!), – Иван стал объяснять:
– Я… моя профессия…
Бандит не дослушал.
– Ага, – профессор! – так бы и говорил! – сказал бандит миролюбиво.
Иван подумал, что для бандитов, должно быть, так же авторитетно звание профессора, как для сельских учительниц.
– А я думал, что ты ресефесер! – пошутил бандит и заговорил на воровском наречии, обращаясь к помощникам.
Бандиты опустили наганы. Один из них осветил электрическим фонариком землю под Иваном, поднял с земли перчатку и отдал ее Ивану.
– Катись! – сказал бандит. – Постой! – где проживаешь?!
– В «Париже», – ответил Иван.
– Ага. Документы пришлем завтра, с рассыльным. – Катись колбасой, счастливого пути, товарищ профессор!
Но прежде чем Иван двинулся, бандиты исчезли, точно провалились сквозь землю.
У Ивана были взяты револьвер, бумажник, часы и кепка.
Иван был совершенно покоен. Он постоял у набережной, послушал шум воды, зевнул и пошел обратно, решив, что без кепи в гости идти неудобно. Он шел сначала медленно, потом ускорил шаги, – мимо храма Христа он уже бежал. У моста он нанял извозчика, забыв, что у него нет денег, чтобы расплатиться. Он не замечал, что он бежал, – ему казалось, что он совершенно покоен.
Портье заплатил извозчику.
В номере была открыта постель, ярко горело электричество. Иван сел к столу. В комнате у дверей стала уборщица, не уходила, перебирала белый фартук. Иван посмотрел внимательно. В нарочитой смущенности и в совершенно недвусмысленном ламца-дрица горничная склонила голову набок и сказала:
– Может, чего хотите с дороги?
Иван посмотрел на нее внимательнейше, Иван сказал медленно:
– Садись.
Иван смотрел внимательнейше, разглядывал, в удивлении поднявшись со стула – –
– – женщина исчезла в его сознании, сознание помутнело – – он увидел, как на стул село некое громаднейшее государство. Он увидел миллионы нечеловекоподобных людинок, которые бежали, катились, текли по этому закупоренному кожей сложнейшему государству – от легких, к perpetuum mobile сердца к кухням кишек, к озонаторам легких, к лабораториям мозга. Человек, сидевший на стуле, думающий, страдающий, продающийся, – исчезнул. Иван видел рот, красные губы, – и видел, как за жерновами зубов, за мясом языка, через глотку в желудок шел кусок коровьего мяса – с тем, чтобы из коровьего превратиться в человечье. В клоаке кишек собирались отбросы столиц. Глаза шли в генераторы мозговых извилин. – Но рот, губы и глаза исчезли за счет мостовых звеньев позвонка, парапетов тазовых костей. Ежесекундно сердце гнало марши крови. Легкие набухали воздухом, чтобы человеченки крови мылись в нем. Тюбы кишек, кишечные дистрикты содрогались удавами. Мозговые клетки обсасывали фосфор. – Женщина двинула ногой в ночной туфле: – какая сложная система эстафет полетела к позвонку, к спинному мозгу, к коре большого мозга и в подкорковые майораты – и обратно от них в исполкомы мышечных нервов, в провинции человеческого мяса, построенного мышцами, чтобы – перестраиваясь, сжимаясь и разбухая – человеческое мясо подняло само себя на воздух, – себя и кости, заросшие этим мясом, и ночную туфлю, чулок, подвязку и юбку, – подняло в воздух и поставило на другое место, вновь и вновь послав об этом эстафеты, – такие эстафеты, о которых ничего не узнал предсовнарком этого государства – сознание, кора большого мозга. – За эпидермисом, мальпигиевыми слоями, слизями и марками кожи – поистине сложнейшее жило государство красных и белых кровяных людинок, лилового человеческого мяса, белых костей и нервов, страданий, радостей, соображений, сознательного и бессознательного, такого, что не познано еще корою большого мозга.
Горничная давно уже не улыбалась, недовольно и настороженно посматривая на молчащего человека. Иван разглядывал ее болезненно остановившимися глазами.
– Ты дура, – негромко и очень сердечно сказал Иван. – Ты не знаешь, что кроме незнания, которое ограничивает наш мир, ты – и я – мы ограничены еще вот твоим мясом, из которого нельзя выскочить.
– На что это вы намекаете? – сказала горничная, обадриваясь, готовая к улыбке.
– Ну, ты смотри. Это все равно, ты или я. Я некрасивый, ничего у меня нет. Ну, ты смотри, что это на тебе за туфли? – бедность одна! – а вот ты сидишь, кокетничать за пятерку собралась, довольна сама собою. А на самом деле ты – переваренное мясо – и больше ничего, так, одна мышечная клетка из человеческого организма.
Иван помолчал.