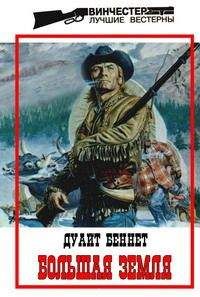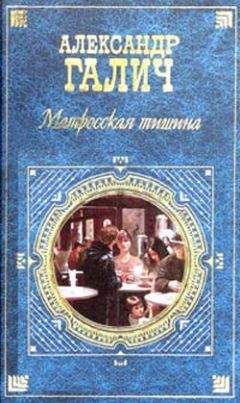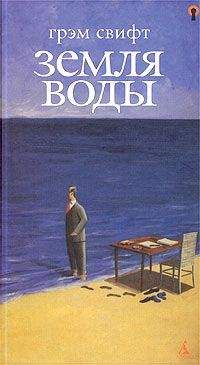Надежда Чертова - Большая земля
Авдотья выпрямилась, неторопливо оправила волосы, отдала поясной поклон сыну, трижды поцеловала его в худые пыльные щеки и степенно сказала:
— Божья воля. Жив остался — и то славно. Дай-ка шинельку сниму…
Авдотья призаняла у соседки ложку масла, накормила сына кашей и постелила на кровати чистую дерюжку.
— Ложись с устатку. Пойду баньку поищу.
Николай прикорнул было, но тут же встал и, хромая, выбрался на улицу. Шли последние дни знойного июля, вся Утевка работала на полях, в улице пищали только малые ребята да пели петухи. И девушка Наталья тоже, верно, жала в поле.
Николай проковылял по двору, осмотрел сарайчик, потрогал его плетневую стену. Плетень, тугой, плотный, был завит его молодыми, сильными руками, а посреди двора по-прежнему стояла недоструганная колода. И сарай и колода были деланы для лошади, которую Николай так и не купил, — успели они с матерью собрать только полцены.
Вечером в избу набились люди. Среди беседы Николай то и дело беспокойно оглядывался на дверь, потом на мать. Дважды ему показалось, что бабы при этом отводили глаза и усиленно шептались.
А ночью, когда они остались одни и Авдотья, вздыхая, улеглась на печке, он спросил:
— Мать, ну как же Наталья-то?
Авдотья смущенно кашлянула, заворочалась, что-то уронила.
— Замужняя она теперь, Николя.
Сын молчал.
— Тосковала она, — неохотно заговорила Авдотья. — Писем от тебя нет и нет. Слышу, идет, поет: «Все пули пролетели, мой миленький убит». Встретила ее, спрашиваю: «К чему песня?» Гляжу, а она хмельная. Обняла меня, плачет: «Люблю, говорит, Франца, сердечко мое спеклося». Франец-то, австрияк, батрачил тут у Дорофея Дегтева. Ну и обкрутились в одночасье, вся Кривуша ахнула. Теперь Франец-то вместе с Кузьмой начальствует. Дружина у них.
Сын молчал, словно его и не было. Наконец произнес глухо и злобно:
— Дружи-и-на!
Глава вторая
Теперь, как и в молодости своей, Авдотья неутомимо бегала по людям в поисках заработка: стирала, шила, пряла, качала малышей — все для того, чтобы послаще накормить больного сына. Шли дни горячей страды. Люди от мала до велика жили в поле. Авдотья же часто оставалась в чужой избе одна с маленькими. Качая люльку ногой, опустив голову, она вполголоса пела:
А как у младого сокола
Сизо крылышко перешиблено,
Уж и где ж ему, болезному,
Во поднебесье летати…
Николай тосковал и сторонился людей. Однажды из окна Авдотья видела, как он взял топор, проковылял к колоде, ощупал ее худой ладонью, должно быть, хотел обтесать, да повернулся как-то неловко, застонал и сел на землю.
— Зачем за топор хватаешься? — сурово выговорила ему мать. — Отдохни, живого духу наберись.
Николай не ответил, но стал после того еще молчаливее. Никуда не выходил, ни о ком не спрашивал и целые дни одиноко сидел на завалинке, вытянув больную ногу.
Авдотья совсем растревожилась. Как-то вечером она приоделась почище и отправилась за советом к Кузьме Бахареву.
Новая саманная изба Кузьмы была приметной: стояла она без крыши, ее куцый земляной верх густо пророс травой, а в траве вытянулся и одиноко цвел хилый подсолнух.
Войдя в избу, Авдотья хотела перекреститься, но вдруг увидела, что угол с иконами занавешен кисейной шторкой. Авдотья не была у Кузьмы с тех пор, как он стал председателем сельсовета, и теперь со скрытым любопытством оглядела избу. На стене висела винтовка, на столе лежала стопка тонких книжек, в избе было чисто и пустовато. Кузьма торопливо хлебал квасную тюрю, а на скамье смирно сидели три девчонки, в люльке же спал маленький.
— Хлеб да соль, — поклонилась Авдотья.
Кузьма глянул на нее из-под густых седоватых бровей и легонько кивнул.
— Садись с нами, — откликнулась из-за люльки Мариша, жена Кузьмы. — Ишь, живьем глотает, — с неожиданным раздражением сказала она, показывая на Кузьму. — Некогда ему на старости-то лет…
— Младенец здоров ли? — сдержанно спросила Авдотья.
— Чего ему… А ты садись-ка.
Авдотья присела на скамью, рядом с девчонками, и оправила темную старушечью юбку.
— С докукой я к тебе, Кузьма.
— Сказывай, Дуня. — Кузьма опрокинул ложку на стол и смахнул крошки с бороды. — Рада, поди, сыну?
— Еще бы не рада! Только вот смутный он стал. Думка в нем какая-то есть. Узнал бы ты, об чем ему мечтается.
Кузьма встал, оправил рубаху, снял со стены мятый картуз и пиджак.
— Спросила бы сама: ведь мать как-никак.
Авдотья тоже поднялась и застенчиво усмехнулась.
— Не могу я спросить, не умею. Мы все такие молчаливые. В сердце замкнешь да на одиночку и перемучаешься.
Они молча постояли друг перед другом. Были они одногодками. Когда-то ее прозвали Нуждой, его Аршином в шапке. Однако в нем уважали тихое упорство и аккуратность в работе, за ней же с молодости признали высокое мастерство вопленицы. Выросли они на одной улице, вместе влачили бедность, вместе терпели обиды, — старая, невысказанная, суровая дружба связывала их.
— Должно, об Наташе тоскует, — шепнула Авдотья, — спросил бы его.
Кузьма взглянул на нее и решительно надвинул картуз.
— Скажи Николаю — приду!
За стеной гулко зазвонил колокол: отбивали ночные часы. Кузьма снял со стены винтовку и обернулся к жене:
— Обученье у нас, Марья. Ухожу я.
Мариша шевельнулась на постели, линия ее плеч и головы едва угадывалась в сумраке.
— Словно бы мальчишка, по ночам с ружьем забавляется, — тихо, с обидой произнесла она. — Хозяйство все пало.
Кузьма виновато и мягко сказал:
— Спите тут, — и вместе с Авдотьей вышел на сонную улицу.
Глава третья
До седого волоса проживший бобылем, Кузьма Бахарев женился в последний год войны на смирной нестарой вдове Марише, которая привела в его избу трех девчонок.
Вся Кривуша помнила Маришу красивой певуньей и озорницей. Мариша сохла по одному парню с Большой улицы, ходила с ним в хороводах, пела заливистые песни. Однако строптивый отец пропил ее за немолодого, чахлого мужика Якова: соблазном тут послужило обещание поселить молодых в новой пристройке к избе и дать им на разжитие корову и лошадь.
Накануне смотрин Мариша травилась спичками, но выжила. Через неделю сыграли свадьбу. И тут выяснилось, что обещанию тому грош цена: вселиться Марише с мужем пришлось в общую семейную избу, и получили они одну телушку. Старики поссорились, даже побились, но дело было сделано, против закона не пойдешь, и Мариша покорно взяла на себя хозяйство, огрубела на мужицкой работе, стала молчаливой и суровой. Яков прожил пять лет и умер, оставив вдове трех малых девчонок.
Однажды Кузьма шел мимо Маришиной избы. Вдова его не видела. Окруженная детьми, она, кряхтя, подводила подпору к боковой стене избы. Старшенькая, Дашка, нахмурив смоляные, как у матери, бровки, изо всех сил поддерживала тесину. Младшие глазели, засунув пальцы в рты. Кузьма остановился. Его пронзили жалость и удивление перед стойкостью одинокой вдовы.
— Бог помочь! — окликнул он ее. — Аль изба падает?
Мариша выпрямилась и ответила неохотно:
— Падает.
Кузьма взглянул на ее сильные плечи, на маленькие босые ноги и сказал, почти не слыша себя:
— Пойдем в мою избу. Один я.
Мариша удивленно вскинула на него серые глаза:
— Девок куда дену?
— Ребят я призрю, — строго выговорил Кузьма.
Через десяток дней отгуляли свадьбу. В церкви отец Александр читал молитвы торопливым, захлебывающимся тенорком, как бы предчувствуя скудость вознаграждения. Хор призван был малый и тянул почти одноголосно. Тяжелый свадебный венец съезжал Кузьме на нос. Мариша стояла румяная, опустив мокрые от слез ресницы.
За свадебным столом никак не ладились песни. Хмельные солдатки запевали разбитные частушки, старухи ворчали: «Не к добру песня эта — не тянется». И все говорили про свадьбу Кузьмы: «Пожалели друг друга, обоим на свете деваться некуда».
Но, на удивление всей Утевке, Кузьма с Маришей зажили ладно. Изба Кузьмы зацвела бумажными занавесками, ребята бегали веселые и чистые. Мариша звала мужа Кузьма Иваныч, и в Кривуше теперь уже стеснялись называть его Кузей и Аршином в шапке.
Он работал изо всех сил: не мог спокойно видеть горькую настороженность Мариши и старался незаметно угодить ей. Один раз даже купил на ярмарке крупные красные бусы.
— Куда мне, стара уж стала, — сказала она, однако заулыбалась.
Через год родился у них мальчик. Кузьма, нерешительно потрогав оранжевую морщинистую щечку младенца, убежал под сарай и принялся неистово рубить дрова на баню роженице. Скоро у него взмокла спина, куча дров лежала у его ног. Он замахнулся еще раз, но не ударил, а тихо опустил топор, засмеялся и стал вытирать рукавом лицо.
![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](/uploads/posts/books/60504/60504.jpg)