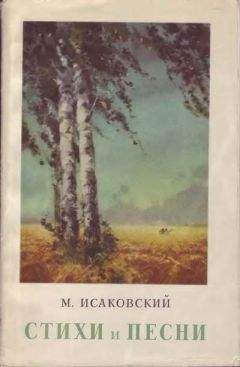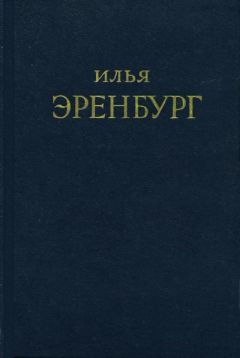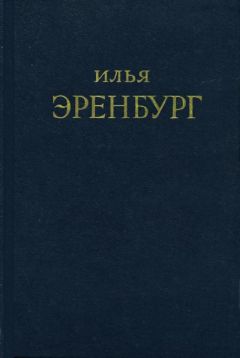Михаил Соколов - Искры
Леон подошел к балагану, молча стал разуваться.
— Это, по-твоему, рано аль как? — напомнил о себе Игнат Сысоич. — Гляди, солнышко выткнется — будем начинать, с богом.
— Загорулька без нас докосит.
— Чево? Чево ты мелешь?!
— Не мелю. Нефадей свою обнову на нашей пшенице пробовал, — угрюмо проговорил Леон.
— Где? — насторожился Игнат Сысоич.
— У двойника[2].
— Да он что, пьяный был, или у него повылазило? Чужой хлеб, зеленую пшеницу — и покосить?! Вот же хамлет проклятый, в машину б твою душу, су-укин сын! Пфу! — сплюнул Игнат Сысоич и, вскочив на ноги, ожесточенно растер сапогом о землю недокуренную цыгарку. — Вот же судьба, будь ты, анафема, трижды распроклятая!
Он стал расспрашивать, на каком участке и сколько покошено, ругался, топчась возле балагана, как спутанная лошадь, и наконец быстро зашагал к месту покоса.
Дороховы арендовали этот участок четвертый год. Верхними гонами он подходил к проселочной дороге, нижними — к балке. И каждый год что-нибудь да случалось: то лошади от балки заходили в хлеб, то казаки, едучи на базар, ночью косили пшеницу лошадям на корм. Сколько раз стыдил Игнат Сысоич застигнутых хуторян, пригонял к себе лошадей, но это не помогало, а караулить каждую ночь не было сил. Всякий раз после потравы он проклинал участок, давал себе слово в следующем году арендовать другой, на равнине, подальше от дороги, но не мог сделать этого, потому что равнинные участки ценились вдвое дороже.
Жалко было преждевременно скошенной пшеницы. Казалось, свой, хуторской человек, а вот поди ж ты, среди бела дня въехал в чужое поле, как в собственное, и по-воровски загубил недозревшую пшеницу. Потому так и вскипел Игнат Сысоич и ругался страшно, в бессильном приступе злобы грозясь будущим скирдам и амбарам Нефеда Мироныча.
Он шел по двойнику порывисто, торопливо, не чая скорей добраться до места покоса, и тело его дрожало от гнева.
Далеко за лесом бледной синевой вставало утро. Просыпаясь, отрывисто перекликались жаворонки, разбуженные шорохом шагов, то и дело вылетали из-под ног и исчезали в предрассветной мгле.
Заметив копну, Игнат Сысоич остановился, потом медленно подошел ближе, широкие, с сединой брови его сдвинулись к переносице, горло свело спазмой.
— Покосили! — убито прошептал он, точно сомневался до этого.
Что делать? Бежать на ток Загорулькина и там расквитаться с ним — далеко; итти в хутор, к атаману, взять понятых и составить протокол — сейчас ночь. Трясясь, словно в лихорадке, он подбежал к копне, торопливо ощупал ее, все еще не веря своим глазам, и, исступленно потрясая кулаками, не помня себя, вскрикнул, устремив глаза к небу:
— Да что же это делается, боже!
И не выдержало надорванное невзгодами сердце. Упал Игнат Сысоич на копну, обнял ее, сколько могли обхватить его короткие руки, и зарыдал, уткнув в нее голову.
Вспомнился прошлый год, когда Загорулькин не отдал овцу за то, что она, напуганная собаками, вбежала в его палисадник, на грядки с редисом. Встали в памяти другие случаи: когда, в день коронации царя, атаман посадил в холодную за то, что Игнат Сысоич не уплатил полтинник на какие-то станичные сборы по этому поводу; когда писарь веслом порубил рассаду за то, что Марья посадила капусту на месте, где был когда-то огород писаря; когда Калина отнял у Леона нарезанный на речке камыш для сарая… и многое, многое такое же.
— Да за что мучимся мы над тобой, корми-илицей? — рыдая, причитал Игнат Сысоич. — Мочи ж нет так жить!
Откуда-то из лощины послышался разнотонный перезвон колес и затих. Вскоре он повторился отчетливей и опять стих, будто волнами катился по полю. Вот уже слышен топот лошадей, цоканье подков. Прошла еще минута, и совсем близко с гулом покатилась линейка. Лошади захрапели, испуганно рванулись в сторону.
Игнат Сысоич узнал Загорулькина.
— Тпру, тпру-у! — Нефед Мироныч что было силы натянул вожжи.
«Игнат! Не в добрый час. Господи, неужели ж… а?» — боясь договорить страшное слово, подумал он и оглянулся по сторонам, боясь, что попал в засаду.
В первые секунды у Игната Сысоича было желание побежать к Загорулькину и расквитаться за все. Он быстрым взглядом окинул землю: нет ли камня где? Карман шаровар тронул, голенища сапог: может, нож окажется? И, выпрямившись, направился к линейке.
— Игнат! Игнат Сысоич! Это ты? Фу-у, господи. А я бог знает что подумал, — скрывая тревогу, невнятно забормотал Нефед Мироныч.
Подойдя к линейке, не вынимая руки из кармана, Игнат Сысоич лютым взглядом измерил Загорулькина и глухо спросил:
— Ну, как пшеничка, хуторянин? Аль скошенное забрать приехал?
Нефед Мироныч понял: дело может кончиться плохо. И заторопился с извинением.
— Прости, Сысоич! По дурости сделал, бог свидетель! Я возверну с лихвой, не обижайся, Сысоич. Черт попутал, видит господь, — скороговоркой лепетал он, а левой рукой незаметно дергал вожжи. Но лошади, на беду его, успокоились и лакомились колосьями хлеба Степана Вострокнутова.
А беда действительно приключилась бы, потому что в кармане, в руке Игната Сысоича, оказался тот самый нож, которым он всегда резал казацких свиней. Однако жалость взяла в нем верх.
— Я не зверь, Нефед, хоть и надо бы проучить тебя за такое измывательство над своими хуторянами, — сказал Игнат Сысоич дрожащим голосом и, выйдя из хлеба, медленно пошел по двойнику.
Нефед Мироныч вытер рукавом потный лоб и облегченно вздохнул.
— Не серчай, Сысоич, мы люди свои. Возверну все пшеницей! — заискивающе крикнул он вслед Игнату Сысоичу. Но ехать вперед не рискнул. Все еще опасаясь засады, круто повернул лошадей на дорогу и покатил обратно в хутор, нахлестывая их и оглядываясь по сторонам.
Отъехав с полверсты, он окончательно успокоился, и мысли приняли другое направление: «И чево ж я испугался! А впрочем, такой народ только и встречает на большой дороге. Надо куму сказать. Так и до греха недолго дойти! Фу-у, господи, даже в пот ударило».
В ложбине за балкой еще долго слышался перезвон линейки, то затихая, то усиливаясь.
Далеко за лесом, поверх черных силуэтов дубов, солнце уже расписывало облака огнистыми красками.
Игнат Сысоич в горьком раздумье постоял возле копны скошенной пшеницы и двинулся к своему балагану. Но не прошел он и двадцати шагов, как из пшеницы поднялся человек и направился прямо к нему. Игнат Сысоич остановился, от неожиданности.
— Это я, дядя Игнат, — услышал он голос Яшки. — Доброе утро!
Игнат Сысоич неуверенно подал ему руку, спросил:
— С чего это ты в хлеб забрался?
— Сидел смотрел на вас с отцом, — ответил Яшка. — Да жалкую, что вы ему нос не раскровили, батьке моему.
Игнату Сысоичу не верилось: слыханное ли это дело, чтобы сын так говорил об отце!
Яшка угостил его папиросой. Потом сунул ему в руку золотую пятерку и сказал:
— Это от нас с Аленкой, дядя Игнат. Не подумайте… мы сами живем с ним, как собака с кошкой.
Яшка повернулся и быстро зашагал в направлении своего тока, а Игнат Сысоич остался на месте с золотой пятеркой в руке, изумленно смотря ему вслед.
4Леон лежал возле балагана, курил. Жалко было ему загубленной пшеницы, и он находился еще под впечатлением ссоры с Яшкой. Но сейчас, поразмыслив, он думал о другом. «Когда же придет конец самоуправству богатеев и атамана? Сегодня — пшеница, до этого — овца, там — капуста, камыш, сутки пребывания отца в холодной за несчастный полтинник! Где же справедливость, закон? Совесть, наконец? Зачем же пускать мужиков в хутора, если с ними можно поступать, как со скотиной? Земли не дают, толоки не дают, на сход не пускают и шкодят на каждом шагу. Какая это жизнь, ежели одному в три горла всего достается, а ты — хоть волком вой! И при Некрасове так жил наш брат, как пишется в „Железной дороге“, и рабочий народ так живет — лишь бы с голоду не подохнуть, как говорит зять. Нет, так жить невмоготу. Надо искать новую жизнь», — рассуждал он и спрашивал себя: «А где эта новая жизнь? И есть ли она? Чургин прошлый год говорил: надо бороться за эту жизнь. Значит, ее нет».
Он встал, задержал взгляд на коробке со спичками. Посмотрев в направлении полей Нефеда Загорулькина, он подбросил на руке спички и задумался. «Да, надо подыматься. Чургин дельные слова говорил. Бороться с богатеями и атаманами насмерть».
Вернулся Игнат Сысоич и стал советоваться, что делать. Леон коротко отрезал:
— Красного петуха пустить. Бороться надо с ними!
Игнат Сысоич испуганно понизил голос и прошептал:
— Ты в своем уме? На каторге сгниешь, сумасшедший! И из головы выкинь борьбу свою дурацкую. Мыслимое ли дело — палить?
— Ну, и так измываться над человеком — немыслимое дело! — со злобой ответил Леон.