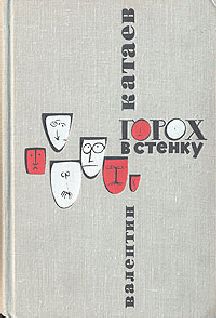Иван Катаев - Сердце: Повести и рассказы
— Слово товарищу Бруху.
«Вчера вечером я шел мимо нашего первого универмага и — замер. Там — в тесном интерьере, рассеченном пополам тенью огромного абажура с зелеными висюльками, за чайным столом розовощекий болван читал «Известия», развалившись в кресле и положив ногу на ногу.
Супруга болвана визави пила кофе из прозрачной чашечки, оттопырив восковой мизинчик. Кофейник блистал на белоснежной скатерти среди салфеток, тарелочек, вазочек с печеньем, молочников, щипчиков. Кругом все было уставлено и увешано вещами — стульями с высокой спинкой, круглыми столиками, солнцеликими подносами, щетками для Схмахивания крошек, кривыми, как ятаган, деревяпными блюдами х л е б-с о ль е ш ь, полочками, статуэтками, панно с тетерками и лещами. Коврики и дорожки распластались под ногами четы, и дебелый резной буфет, как обожравшийся аббат, лениво благословлял ее. «Обрастайте! — вопила витрина. — Загромождайте жизнь деревом, стеклом и мельхиором, в этом закоп и пророки, счастье и тишина». Сегодня утром я приказал тебе, Бурдовский: немедленно разрушь это семейное счастье и придумай что-нибудь другое. Но разве ты уймешься! Мы ведь знаем, что ты и сам будешь есть картошку на хлопковом масле, а не наденешь ничего, кроме синей тройки импортного сукна, что от тебя за версту разит шипром и что старообразная твоя жена ходит в каракулях, увешанная фальшивым жемчугом, пушистыми боа и крокодиловыми сумочками. Но ты украшаешь ее, как универмаг — универмаг любви и попечения, только потому, что ты художник и глашатай вещи; мы знаем: ты хочешь, чтобы вещь принадлежала всем».
— Товарищ Бурдовский, пожалуйста.
«Ты ведь коммунйст, Бурдовский, общественник и графоман. Ежевечерне своим бисерным почерком счетовода ты смолишь длиннейшие статьи об американизации розницы, о механизации складского хозяйства, в упоении отвинчиваешь кожаную ногу — мешает думать — и потом, размахивая руками, на одной ноге скачешь к жене, чтобы послушала и похвалила. Ибо «советский хозяйственник должен каждый свой шаг ставить под контроль масс» — это твое правило. Тебя не огорчает, что твои статьи чаще всего попадают в редакционные корзины. Хлопотливая, стремительная жизнь переполняет тебя, ты обдаешь нас теплыми ливнями своего добродушия, ободряешь самоуверенным хохотом. Спасибо тебе за это.
Мы с вами только на троих посмотрели внимательно, а вон ведь их сколько, творцов и человеков. Чем плох наш Гиндин, финансы? Имейте в виду, он всего полтора месяца женат на смуглой и белозубой студентке-медичке, а опаздывает на работу не более чем на полчаса. И не промечтает ни одного вексельного срока, будьте спокойны. А Иванова, массовая работа, женщина-эскадрон, как зовет ее Бурдовский, потому что она с топотом и криком день-деньской рыщет по району? А толстый Брух, общественное питание, хранитель священных поварских традиций и беззаветный шахматист? Ну, а те вон, на конце стола — Голубева, Кривенко, Поплетухин? Каждый из них — это целый мир или, если хотите, кооператив, в котором...»
— Как, товарищи, больше никто не хочет? На заключительное слово ты, Аносов, надеюсь, не претендуешь? Я его скажу за тебя, так как мне надо сейчас бежать в райсовет. Для нас с вами уже давно ясно, товарищи, что «Красный табачник» в обслуживании населения нам не помощь, а помеха. «Табачник» — это детище прежнего, глубокоошибочиого курса на мелкие, почти семейные кооперативы, порождение цеховщины и сепаратизма. А мы, после слияния с кооперативом имени Горбунова, стали в три раза крупнее «Табачника», и полугодичный опыт работы показал, что укрупнение — единственный путь к исцелению проторговавшейся и проворовавшейся кооперации нашего района. Нам очень тяжело работать, потому что мы пришли сюда на развалины трех организаций, которые потеряли всякое доверие у рабочих и в руководящих органах. И все-таки мы кое-как вылезаем. То, что говорил товарищ Кулябин насчет убыточности столовых «Красного табачника», так это пока общая бода общественного питания, и товарищ Брух правильно ответил, что тут нельзя подходить с одной коммерческой меркой. Нас душит недостаток собственных средств, мы дышим только благодаря кредитным операциям, но как раз слияние с «Табачником» и рост членской массы позволяет нам провести усиленную паевую кампанию. Должен вас осведомить, что президиум правления уже возбудил ходатайство перед губсоюзом о слиянии, нас поддерживают райком и райсовет, и надо думать, что вопрос разрешится благоприятно. Яростная оборона табачников объясняется обычным в таких случаях узким патриотизмом, желанием иметь свою вывеску и марку. Вряд ли губсоюз захочет с этим считаться. Одним словом, «Табачник» должен быть присоединен, и тогда, к девятой годовщине, как уже давно намечено, мы проведем торжественное открытие нашего объединенного рабочего районного кооператива. Окрестим его как-нибудь погромче, а одновременно откроем новые магазины, хлебозавод, три столовых, уголки матери и ребенка и все такое. Времени осталось мало, товарищи, меньше двух месяцев, и все это нужно гнать вовсю. Если хоть кто-нибудь из вас опоздает по своей линии, то испортит всю музыку. Что касается практических предложений товарища Аносова, то они вполне продуманы, и я советую их принять полностью. Возражений нет? Ну, я бегу. Аносов, ты попредседательствуй, а я через полчасика вернусь.
Лечу по коридору. Передо мной вырастает чья-то длинная фигура. Очень бледное лицо, адвокатская бородка клинышком, небритые щеки.
— Шура... Александр... Михайлыч, — говорит он с запинкой и протягивает руку. Что-то страшно знакомое начинает светиться в серых, запавших глазах.
— Что-то не узнаю... Не припомню...
— И не мудрено, — усмехается он, — восемь лет не видались. Сергей Толоконцев. Честь имею впервые представиться. Впервые — потому что у гимназистов представляться было как-то не принято.
Забытая, но по-старому привычная радость толкает меня в сердце. Я бросаюсь к нему... Хотя... Нет.
— Откуда же... так неожиданно?
— Ниоткуда. Уже три года тут болтаюсь. Но только на днях узнал, что ты тоже здесь и на таком, так сказать... посту. Вот и пришел. Около часу сижу, жду, ибо услужающие твои в кабинет меня не пропустили, говорят — заседание.
— Действительно, было заседание. Да и сейчас я очень тороплюсь.
— Ах, торопишься...
— Давайте сядем, что ли.
Мы садимся на диванчик. Мимо проходят взад и вперед инструктора, завмаги, посетители, удивленно оборачиваются на меня, здороваются. Сергей оглядывает их с головы до ног. Очень неловко сидеть так, боком друг к другу.
— Ничего себе, солидное у вас заведение, — говорит он, растягивая слова. — Это что же, все служащие твои?
— И служащие и просто так, по делу... Вы чем же сейчас занимаетесь?
— Занимаюсь-то? Щекотливый вопрос. Месяца три ничем не занимаюсь. Безработный и, что называется, свободный художник. А раньше был агентом по распространению каких-то свиноводческих брошюр. Еще раньше — сторожем на Центральном рынке. И так далее. Вообще привилегией на труд в сей стране не пользуюсь. Юридические же мои таланты, по условиям века, пока зарыты в землю.
— А где... Софья Николаевна? По-прежнему играет?
Что-то он все усмехается и как-то криво, одной щекой.
— Сестра живет со мной. Но не играет уже давно. Наигралась... У нее, видишь ли, голос пропал.
— Как пропал? Ведь она же не оперная актриса.
— А вот так и пропал. Шепотком говорит. Это еще с девятнадцатого, после одной тогдашней экспедиции. Ездила зимой за картошкой, где-то на буферах двое суток просидела, ну и вернулась... и без картошки и без голоса... Впрочем, это и не важно...
— Почему же не важно?
Сергей повертывается и смотрит на меня в упор.
— А потому что все равно ломаться на сцене перед этой новой публикой... — он вдруг осекается и замолкает.
Потом продолжает спокойно, уже не глядя на меня:
— Отец, если это тебя интересует, умер в двадцать третьем году. Из-за этого мы и вернулись с юга — Соня и я. Мать вызвала. На юг же я увез сестру еще в двадцать первом, когда меня выпустили. Я ведь, ты, кажется, знаешь, сидел с самого июля. Отец тогда не поехал, не захотел бросать своей глазной клиники, и мать с ним осталась. Он за это и поплатился, все болел с голодухи. Врачу, исцелися сам... Но он не исцелился, а умер. Теперь мы втроем живем... Вот и весь мой curriculum vitae{Жизненный путь}. Как видишь, — блистательный.
— Вы что же ко мне, по делу какому-нибудь или так?
— А что, разве не весело узреть друга детства? — Сергей отодвигается и смотрит на меня прищурившись. — Странно что-то ты, Шура, со мной разговариваешь...
— Я вам сказал, Сергей Николаевич, что мне очень некогда, — меня ждут в одном месте по делу.
— Да, да, вам некогда. Это все вполне естественно... Нет, я к вам именно так. Исключительно ради того, чтобы засвидетельствовать почтение особе, облеченной известными полномочиями. Честь имею кланяться!