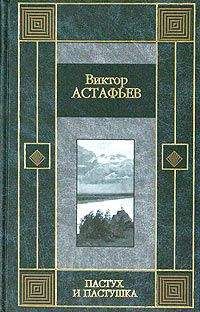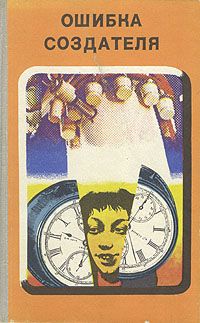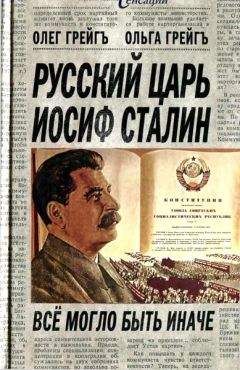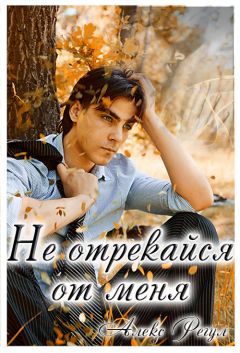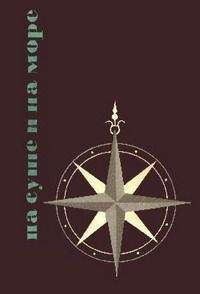Виктор Астафьев - Тельняшка с Тихого океана
На почве утрат мы и сошлись: я потерял ногу на фронте, молодая журналистка, пылко борясь за эмансипацию женщин, тоже кое-чего лишилась. И признаться, я, бывший у нее вторым мужчиной, — о, этот вечный второй! — с ужасом думал, что было бы со мною, если бы выпало мне несчастье быть первым? Ведь к упрекам: «Погубил жизнь и талант» — прибавилось бы еще одно ужаснейшее обвинение: «И чести лишил!» Этого груза нашему семейному кораблю было бы не выдержать, он бы «стал на свисток», иначе говоря, опрокинулся бы. Не-эт, в наше время лучше уж быть третьим, пятым, десятым, но не первым! Обречь себя на суд безупречной, уязвленной нравственности? Не-эт, уж лучше сохранить отношения, придерживаясь классического мерила: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним…» У нас с Анютой, правда, все было наоборот, поскольку не средневековье, век энтээра на дворе…
Однако ж, несмотря на неистощимый юмор и мужественную готовность к постоянным жертвам, ушел я тогда из семьи. В редких своих самостоятельных поступках я бываю тверд. Жена моя, зная это, захворала, сперва просто так, но когда возле меня закрутилась дамочка с сигаретой «Мальборо» в зубах, ценящая мой богатый «унутренний» мир, — заболела всерьез. Зоська за руки привела ко мне моих детей — дочку и сына: «Вава, ты рос сиротой. Хочешь их также обездоливать?»
Не знаю, что было бы со мной, с детьми, с нашей непрочной семьей, если б не сестра. Недавно, всего года три назад, хватанул меня небольшой инфаркт — спутник сидячих работ, и загремел я в больницу. Очнулся ночью, за окном Зоська поет: «Вава! Вавочка! Подай голос! Может, ты уже не есть жив?» — «Если не хотите иметь два трупа, ставьте раскладушку в палате», — сказал я врачу.
«Я знаю, ты мне послан Богом», — поется в опере. Зоська уж точно не судьбою, Богом мне дана. Вот не станет меня в этом мире, а произойдет это скоро: фронтовики, перевалившие за шестьдесят, долго собою не обременяют человечество, скорбнет по мне Союз писателей десятью строчками некролога в «Литературке», и тут же, в горячке речей, средь важных дел и заседаний забудут собратья по перу о том, что из колоса, возросшего на поле, возделанном мучениками и титанами мысли прошлых веков, выпало поврежденное осколком войны зернышко, так и не успевшее дозреть на ниве рискованного земледелия. Домашние мои тоже погорюют, поплачут да и примирятся с неизбежной утратой. Но переживет ли меня сестра? Вот в этом я не уверен.
Но я отвлекся.
В одна тысяча девятьсот сорок восьмом году мы с Зоськой получили квартиру в старом двухэтажном доме, и сестра сказала мне: «Вава, теперь можно привозить маму. Бог не простит, что мы ее побросали».
И я поехал на север, за мамой. На старом, знакомом мне с детства колесном пароходе, который отапливался уже не дровами, а углем, кричал бодрее, дымил чернее, шел, однако, все так же неторопливо по водам родной реки, а я наслаждался первый, кажется, раз после войны покоем и природой.
На старом пароходе было теснее, не удобнее, но в то же время все располагало к сообществу и взаимопониманию. Дня через два уже все пассажиры более или менее знали друг друга, хотя бы в лицо. Я обратил внимание на скуластого, высокого моряка с медалью «За победу над Японией». И он на меня тоже. Встретится взглядом, дрогнет широким ртом, вроде как хочет улыбнуться приветно, и тут же закусит зубами улыбку. Что-то встревожило меня, насторожило — я силился и не мог вспомнить человека в морской форме, хотя на зрительную память мне грех обижаться. Усталость, множество людей, мелькавших передо мной в войну и после, особенно в газете, заслонили собой что-то очень знакомое, до боли, до смущения ума, до сердечной муки знакомое.
На третий день путешествия, да, кажется, на третий, стоял я на палубе, опершись на брус, глазел на воду, на берега, как вдруг кто-то звонко завез мне по спине и затянул: «Вава, дай ручку…»
Я обернулся. Мне улыбался во весь рот моряк.
— Мишка! — узнал я наконец давнего своего неприятеля. — Еремеев!
— Ну, че? Стреляться будем или обниматься?
— Не знаю, как ты, Мишка, а я настрелялся досыта… Мы обнялись, расцеловались, малость прослезились даже и скоро сидели уже на корме парохода, меж поленниц кухонных дров и бухтой каната, и у ног наших стояла «злодейка» с приветно открытым зевастым горлышком.
Вино у нас скоро кончилось, разговоров хватило на всю дорогу.
Бывают пустяки, вырастающие до символов! Якорек, наколотый на моей руке тупыми иголками беспощадных детдомовских кустарей, подвигнул Мишку Еремеева на моря. Думающий, что я живу сыто, богато и счастливо за спиной важного отчима и вальяжной мамы, ничем меня не уязвивший и ни разу в Карасине не победивший. Мишка решил достать, переслужить и переплюнуть меня в морях, совершенно уверенный, что встретит меня там однажды, поскольку у меня на руке синеет якорь, похожий на раковую клешню. Не зря же он, тот якорек, с болью, страданием, с риском заражения крови, наносился на мое живое тело. Но море широко, судьбы человеческие разнообразны, ни на воде, ни на суше не встретил меня Мишка Еремеев и ничем не отомстил, а вот себя погубил. Он тяжко болел туберкулезом, он сгорал от чахотки и ехал в Карасино умирать. Более ему ехать было некуда и не к кому, более его никто и нигде не ждал, да и тетка, сделавшаяся многодетной бабушкой, едва ли ждала. Пьянчужка ее муж, Еремеев, давно умер, поселок Карасино обезмужичел и тоже замирал, рыбу ловить стало некому, другого ничего карасинцы делать не умели.
Скоротечный туберкулез Мишка получил обыденно, мимоходом. Как и все смертельное, страшное, знал я по военному опыту, получалось до удивления просто. Служил он на эсминце «Стремительном», спущенном на воду перед самым началом войны. В боевых действиях участвовал недолго. Где-то в какой-то бухте наша военная эскадра зажала и блокировала отряд японских кораблей, всадила десяток торпед в борта ближних посудин, истосковавшись по военным действиям, жаждая громких побед, жахнула — для острастки, из главных калибров по пирсу, по набережной. Еще и дым от залпа не осел, как все побережье и корабли украсились белыми флагами. Здесь и простояла до конца боевых действий наша эскадра. Моряки гасили пожары, принимали пленных и трофейное имущество, веселились, помогали мирному населению ремонтировать причалы, жилье, кто похозяйственней, копал на склонах огороды, кто помоложе и порезвее — «дружил с приморским населением», крутил романы с девчонками.
Радостное событие, скорая победа породили некую беспечность в сердцах моряков. Ходили по океану весело, почти безоглядно, переходя на «мирные рельсы», разминировали воды и порты. Стоя на посту и на вахте, от бурности сил и брызжущей весельем нетерпеливой молодости, били чечетку на железной палубе, мечтали о надвигающейся счастливой жизни на мирной, утихшей земле, среди устало переводящего дух, надсаженного нашего народа.
Так вот однажды в этом все не кончающемся чувстве эйфории, опасной, между прочим, болезни, заступил Мишка Еремеев на пост, на верхней палубе. Ночью ударил снежный заряд. На Мишке тельник, фланелевый бушлатик, форсистая бескозырка. Но, считая себя шибко закаленным, гордым, все еще кипящий внутри от горячащего сознания совершенного однажды подвига, насквозь промокший и продрогший, замены вахтенный не потребовал, даже сухой одежды не попросил.
Утром его знобило, ломало, он встал под горячий душ и выстукивал зубами: «Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда…»
Ослабленный в детстве полуголодным житьем, но до помрачения ума самолюбивый, уже поняв, какая болезнь привязалась к нему, пробовал скрывать ее Мишка. По совету всезнающих бабок давил и ел собак на берегу, по рецептам еще шибчее знающих, просоленных моряков и знахарей корейского и китайского происхождения пил горькие травы, грыз ночами похожий на комбикорм комок глины, обматывался компрессами на горячем спирте, держался бодро, много и весело пел, смеялся.
Но силы его таяли, тело худело, провалились щеки под крутыми скулами, лицо спеклось от жаркого румянца, шелушились слабые губы, всюду выступала кость. Он пытался побороть болезнь работой, вкалывал наравне со всеми, надеялся неистовостью натуры, упрямством характера заломать болезнь или хотя бы спрятать ее от экипажа. На корабле, в тесной его железной коробке, ничего не спрячешь. Друзья по экипажу какое-то время «не замечали» Мишкиной болезни, тайно, затем в открытую помогали ему. При нынешней медицине Мишку, наверное, вылечили бы — живуч по природе парень, половину легкого отхватили бы, чего-то подтянули бы, поднакачали. Но тогда еще нечем было лечить туберкулез в открытой, тяжелой форме. Однажды, на перекомиссии, «зацепили» Мишку, подержали в одном-другом госпитале и, пока на ногах моряк, потихоньку с флота списали.
Ну и как у нас, душевных русских людей, водится, после госпиталя отвальная, братанье на родном корабле, хлопанье по плечу, благодарность командования Тихоокеанского флота, командира эсминца, старпома, замполита, пожелание скорейшего выздоровления, счастливой жизни, доброй жены и многих детей…