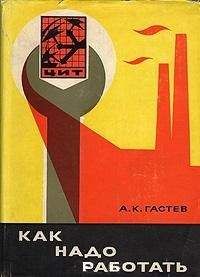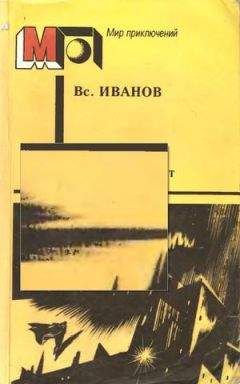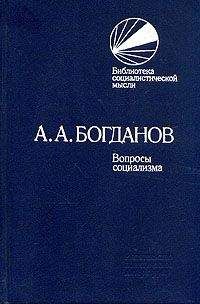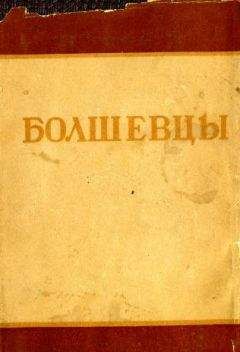Алексей Гастев - Поэзия рабочего удара (сборник)
– Ну да, не в первый, меры принять надо! – кто-то кричит из толпы. – Людей бьют, как мух, а веревок хороших жалеют. Человеку и то нельзя на гнилой веревке удавиться, не то што балки подымать.
– Да успокойтесь же, господа, я доложу директору. В таком громадном заводе за всем усмотреть нельзя.
– Старост, старост надо выбирать! – кричит взобравшийся уж на верстак Корявый. – Вы с вашими очками тут только глаженые сюртуки дерете; убытки вам же, а наш брат во все норы пролезет. Сами порядки установим.
– Эй, лепят, лепят! – послышалось сзади. – Лепят объявленья!
– Что, чего, где? Которые? Ори шибче!
– Останавливай! Баста! Выключай моторы!
Заревел не вовремя разбуженный гудок, загудел прерывисто, торопясь; звук натыкался на что-то, падал и снова ревел, входил лихорадочной дрожью в груди, колыхал и будоражил людей.
У всех согнаны усмешки с лиц; старики сбросили очки, молодые стряхивали пыль со штанов и блуз.
– Начинается, варится каша, – говорили кругом.
Маленькие мальчишки-ученики стремглав понеслись к выключателям, и вмиг завод остановился.
Среди воцарившейся заводской тишины, после завывания моторов и лязга молотов, людской шум вольно поднимался к сводам, гулял в холодных каменных просторах и новой тревогой возвращался вниз.
Море, целое море людей волнами дерзкими, шальными, идет и поднимается в заводе.
Толпа обступила объявление, лезет вперебой, словно тушит пожар, ломит, колотит витрины; объявление изорвано в клочки. Кем? Как? Всеми. Набрасывались все, и каждый считал за счастье хоть уж не рвать, а только потоптать его.
Изорвано, истоптано, поругано.
И стало тише.
В дальней кузнице, отделенной стеной от завода, еще хрястал и потрясал завод паровой молот, но как будто испугался сам себя в общей тишине и, оборвавшись на полуударе, сразу замолк.
Все сошлись в сборочной мастерской. Слесаря расположились у верстаков, прибывшие потом токаря, фрезеровщики и сверловщики встали дугой напротив. Встали торжественно и ждут чего-то, переговариваясь.
Уж хотели что-то начать говорить, как вдруг валом повалила толпа из котельной. Черные, прокопченные дымом, покрытые пылью, с загнутыми рукавами, серьезные идут, прут без остановки.
– Наши все снялись, ребята! – говорили торжествующие котельщики. – Горна залиты, шпонки от раздувал спрятаны; сыскать, полгода потерять.
Корявый не вытерпел, пролез в середину, взобрался на верстак, подперся руками и начал:
– Слово говорить народу я хочу. Учился я у заштатного дьячка. Не извините, ежели осечку дам на слове.
– Не ломайся, не депутатище пока что.
– Господин директор с женой, вишь ты, не ладят. С пустяка и началось.
– К делу, к делу!
– О деле! – послышалось несколько голосов.
– Валяй, валяй, Корявый! Вам бы – господи благослови, да и бултых опрометью.
Корявый продолжал:
– Евонная жена, слышь, кадрель пляшет, а он подругой части: нос в карты окунает. Ну, дело и разошлось.
– Корявый, поддай пару, не хрипи!
– Одно за одно у них. Она не говоря дурного слова, да ему модным каблуком в нос. И опосля этого происшествия директор теперича недели с две не отчишется. А подвел дело так, что бытто чишет от махорки.
– Тонко, тонко подвел Корявый, – кричали сзади.
А Корявый увлекался:
– А насчет завтраку дело вышло по-иначе.
– Да долой-те, чудило гороховый! Дай другим! Долой!
– Нет, братцы, сказка без конца – все одно, что курица без яйца.
– Дельно. Вваливай!
– У него, слышь, брюхо давно не лужено, плевое брюхо. Так что наш брат заворачивает за щеки судачьи головы, – без масла идет, а у него только от зависти в брюхе урчит. Ну вот, и не чай пий, и не жри наш брат. – А я так по-своему, по-дурацки, полагаю, что, как говорят на сходках, во-первых, – и он откладывал палец на руке, – нос-то у него не совсем на том месте, и надо его легонько подать, а во-вторых, насчет брюха-то тоже малость поднажать, а то оно не под силу нагружено, а как следовать быть не полужено!
– Правильно! Коротко, а складно! Где вам, молодым! Х-мо, х-мо, х-мо, тянут, а коренного не добьешься.
– А, ну-ка, я мотону! – вылезает молотобоец. – Ну-ка, объясню по делу; недаром, чай, книжки-то читал, да отмечал…
– Идут, идут! Начальник! – пронеслось в толпе.
Директор, окруженный инженерами, мастерами и табельщиками, раздвинул деликатно толпу, проходил в середину и сразу еще на ходу, начал:
– Господа!
– Господ здесь нет, мы из порядочных! – буркнул кто-то.
– Господа! Я никак не ожидал, что вы так неспокойно отнесетесь к этому делу. Человек я новый, но мне рассказывали, что в последнее время вы стали благоразумны. Уничтожение куренья придет рано или поздно. Я знаю, что ваши друзья говорят вам о Западной Европе, но я образование получил в Бельгии, сам работал на немецких и французских заводах.
– На котлах верхами ездил.
– Господа, прошу не перебивать, иначе нельзя ручаться за спокойное течение собрания.
– Да… То-то и полиция-то припасена.
– Господа, спокойствие. Полиция – дело гражданской власти.
– А кто ее позвал?
– Я сообщил только, что завод остановлен, я обязан по закону.
– Ну, ладно, – гладко, гладко говоришь, что еще расскажешь?
– Прошу спокойствия. На всех европейских заводах курение абсолютно запрещено, и благоразумие рабочих позволило провести эту меру безболезненно. Сдельная работа много от этого выигрывает для вас же самих.
– Для нас голубчик старается. Качать его, кто помоложе-то.
– Относительно завтрака я сделаю доклад в правление, но прошу подумать. Мы вводим всюду, вместе со сдельной, и почасовую плату. Четверть часа высчитывать, это значит, – увеличивать бухгалтерию, а от вас отнимать часть заработка. Подумайте, не поддавайтесь настроению минуты!
– Слова, слова прошу! – закричал слесарь Ваня, взобравшийся на плиту.
– Ну-ка, ну-ка, расчеши! Расчеши по пунктам!
А Ваня уже начал:
– Товарищи!
– Именно, именно, товарищи! – грянули из глубина толпы. – Тепло говорит малый.
– Вот молодые-то нынче пошли; молодые-то вернее берут.
– Товарищи! – надрывался Ваня. – Дело начато, Назад идти – в дураках остаться.
– Вот так: сразу быка за рога.
– Директор рассказал и не поскользнулся; гладко рассказал. Одного не выяснил: почему раньше этого не вводили? Али его дожидались, покуда он из Бельгии-то не приедет. Нет, не тут зарыта собака: движенье наше сошло маленько на убыль; прилегли мы малость; ну вот, лежачих-то и бьют. Сегодня курево, на другой день завтраки, там, глядишь, доберется до мытья рук. Хитер враг: это они нюхают объявлениями-то. Так покажем-ка, товарищи, что не умерли мы, не задушены. Глядите: и так уж собрались нас хоронить здесь. Глядите-ка; потолки идут все ниже, все теснее, балки прут, все напирают, душат балки; окна занесены пылью, солнце не проходит, только лижет стекла: все темнее, все надсаднее глядеть. Груди негде разойтись.
Толпа совсем затихла, слова не проронит.
– Поглядите-ка, – как-то басить начал Ваня, – поглядите-ка, послушайте, как кашляет, как зычет наше старичье: сердце жмется слушать; войдет в клозет, да в тишине-то начнет кадычить, так словно в гробе бухает. Не старики пошли, а старичонки, да и не мужики, а мужичонки, не парни мы, а парнишки. Еще десять лет, – нас на семя и то не останется. А женят дураков, а дуры родят.
– Верно. Ай, Ванюшка, ай-да Ванечка!
– К чему? Чтобы еще народ мельче произошел, чтобы его больше жали. Братцы! Вовремя хвататься надо. По спинам скоро ходить станут. Вставайте же, товарищи, снимайтесь!
– Эй, полиция, полиция! У всех ворот. Осада сделана, отбирать будут.
– Солдат, слышь, ведут.
– Товарищи! – кричал Ваня, – не рассыпайтесь! Всех забрать нельзя, а нам ведь не впервой. Тогда уж крепче, еще крепче станете держаться.
Толпа подалась ближе к верстакам.
Директор побежал к входящему в завод приставу, сказал два слова, торопясь, серьезно, внушительно. Пристав побежал к телефону.
– Ага, охота будет! – кричал из толпы Корявый. – По-одному выхватывать станут.
И запел:
Щиплют, щиплют травку
Волку на муравку.
Сзади толпы, торопясь, расталкивая ее, пробирался в средину старик в кожаном фартуке. Задохся, закашлялся, лезет на верстак со своими страшными, не то испуганными, не то радостными глазами.
– Эй, – захрипел он, барахтаясь по верстаку, – эй, дозволь, народ рабочий, православный, дозволь слово сказать…
Дрожал старик.
– Может, в последний, може, перед гробом. Жалко умирать, не сказамши. Не расскажу, сто лет не сгнию. Допрежа всего совет дам стариковский: нам этого парнюгу, что сейчас рассказывал, нады прибрать, схоронить нады, а то эти духи-то до таких-то охочи. Это первое. Второе: держись крепче, робята! Стоит постоять! Глядь, глядь, народ честной, на меня! Все тут; жизнь отдал я заводу. На мне все это ехало. Балки первые мы клали, краны волокли мы, молота становили мы, станки сбирали мы.