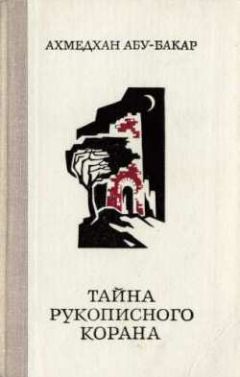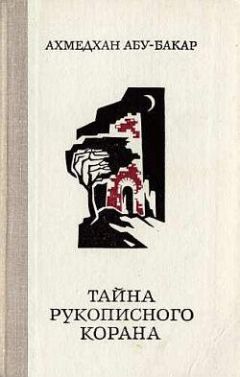Ахмедхан Абу-Бакар - Снежные люди
Сегодня Айбала поднялась с постели и вот сейчас сидит возле сакли на припеке, окруженная детьми. Бабушка знает несметное множество небылиц и былей, историй, сказок, преданий, пословиц, присловий, причитаний, песен свадебных и погребальных, а чего и не знает, сама придумывает… И оттого всегда окружена, словно бы воробьиной стаей, детворой. А рассказывать бабушка любит, было бы кому слушать, а взрослые или ребятишки — все равно! Посмотрите, как бабушка Айбала увлечена своим рассказом: костлявые пальцы вдруг сгибаются, будто орлиные когти, глаза то прищуриваются, словно смотрят вдаль, то испуганно расширяются, то загораются огнем, и бабушка сама становится похожей на страшную Вагик из горских сказок. А дети все теснее жмутся к ней, все торопливей дышат, пугливо озираются.
Айшат остановилась поодаль, прислушалась.
— Однажды он подстерег, схватил мохнатыми лапами красавицу Зубари и убежал в горы быстрее, чем скачет конь, чем прыгает тур. Сорок лучших джигитов аула любили красавицу Зубари; храбрые, они бросились в погоню за каптаром. Но не вернулся никто в родную саклю: одних каптар сбросил в пропасть, других загрыз, прыгнув со скалы на спину, третьих убил снежной лавиной, а после съел, разгрызая человечьи косточки, как мы грызем грецкие орехи…
— А что было с красавицей Зубари? — испуганно прошелестела девочка.
— С Зубари? О, с ней-то было страшнее всего. Снежный человек сорок дней и сорок ночей играл в ледниках свадьбу и, наконец, женился на ней силой. Но в последнюю ночь Зубари кинулась в ущелье…
— И умерла?!
— Нет. Говорят, каптар не дал ей умереть и до сих пор, говорят, мучает, а умереть не дает. И стала Зубари седой как снег. И говорят, прикована она цепями на самом высоком леднике Дюльти-Дага…
Тут Айшат прервала рассказ:
— Я к тебе, бабушка. Ты не рано ли поднялась?
— Поднялась, доченька. Грею кости на солнышке. Спасибо, да пошлет тебе аллах хорошего жениха, твое лекарство лучше бальзама.
— Я рада, рада, бабушка, что тебе лучше… А что это ты рассказывала детям?
— Да вот просят рассказать про снежного человека. Про каптара!
— О каптаре?! Почему?
— Да о ком же еще? Весь Шубурум только и говорит о катаре. Будто бы даже в газетах писали. Вон как!
— Ну, я пошла, бабушка.
— Иди, иди, доченька.
И только Айшат хотела свернуть в переулок, как ее чуть не сбил с ног Хажи-Бекир, который спешил к сакле Адама.
— Куда же это наш Азраил так бежит, а? — воскликнула старуха Айбала. — Будто удирает от каптара! Чуть мою внучку не столкнул. Вот чумовой! Эй, куда ты?
— В жаханноб (в ад)! — крикнул Хажи-Бекир.
— Туда тебе и дорога, — сказала вдогонку бабушка Айбала.
Сегодня Хажи-Бекир проснулся поздно, и первой его мыслью было, что Хева, наверное, уже вернулась в саклю. Однако ничто не говорило о ее присутствии: в очаге не было ни огня, ни кастрюль. Могильщик быстро оделся и выглянул во двор: и там нету Хевы. У закрытых ворот все еще мычала корова, которая по привычке подошла к ним, услыхав, что мимо гонят стадо. Так и стоит здесь, недоенная, голодная, и мычит, жалуясь. Только теперь у Хажи-Бекира стало тревожно на душе: время приближалось к обеду, а Хевы все еще не было. В отчаянии он ударил себя кулаком по колену и поморщился от боли. К тому же могильщик почувствовал голод: со вчерашнего обеда он только пил ледяную воду. Вот когда вспомнились ему слова Адама: «Поверь мне, дорогой Хажи-Бекир, до чего же грустно одному в сакле: ни огня в очаге, ни котла на огне…»
Не вытерпела душа Хажи-Бекира: распахнул настежь, ворота («Пусть корова идет куда хочет, хоть к шайтану!») и решительно зашагал к сакле Адама. В проулках, где шел могильщик, с воплями разлетались испуганные куры, собаки поджимали хвосты и прятались по укромным местам, словно бы понимая, что недоброе сейчас настроение у Хажи-Бекира и лучше с ним не связываться. Возмущенный, разгневанный не меньше, чем вчера, когда обварил горло, могильщик ворвался в саклю не постучав. Здесь была только Хева: сидела у очага и готовила обед. Хажи-Бекир был поражен ее спокойствием, непринужденностью: что-то остро кольнуло его в сердце.
— Ты что делаешь? — рявкнул он.
— Разве не видишь: готовлю обед, — равнодушно отозвалась Хева.
— Что ты говоришь?! Какой обед? Ты должна вернуться домой! — закричал Хажи-Бекир.
— Как же я могу вернуться, если он не сказал тех слов?
— Как не сказал?
— Очень просто, не сказал — и все.
— А где он? — Негодованию Хажи-Бекира не было предела; только теперь его осенила догадка, что дело оборачивается очень скверно. — Где он?
— Кто?
— Твой муж. Да что я: какой он тебе муж? Горбун писклявый. Где он, спрашиваю?
— Ты всегда говорил: жене незачем знать, где ее муж и что он делает. Я не слежу за мужем.
— Одумайся! Какая ты ему жена?!
— Ты же сам выдал меня за него замуж. Разве я этого хотела? Ты же уговаривал… А он не хочет теперь произносить те слова.
— Не хочет?!
Это было уж слишком.
— Да. Зачем, говорит, я стану повторять такую бессмыслицу: разве я попугай?.. А знаешь, Хажи-Бекир, он мне говорил такие добрые, такие хорошие слова: ты таких и не знаешь! Радовался, как ребенок. «Только теперь, — сказал, — я стал человеком. И не хочу расставаться с тобой, Хева!»
— Так и сказал?!
— Так и сказал…
— Чтоб его сожрал каптар! Проклятый! Мы же договорились…
— С каптаром?!
— Хуже: с твоим горбуном… Налила б ему такого горячего супа, как мне, — небось запел бы другое.
— Но я хуже сделала. Перепутала и положила в чай соли вместо сахара, — простодушно рассмеялась Хева.
— А он?
— Выпил! И глазом не моргнул. Сказал, что вкусно.
— Мер-рзавец! Ну, доберусь я до него… А ты сейчас же ступай домой.
— Как это — домой?
— Я тебе говорю: сейчас же отправляйся домой!
— Да я же не могу! Ведь он не сказал тех слов… Сам же знаешь.
Возразить было нечего: Хева не могла уйти просто потому, что ей захотелось уйти… Хажи-Бекир исколотил бы, как он думал, «эту бесчувственную скотину Хеву», но не смел и пальцем коснуться чужой жены. Шариат строг! И могильщик бесился от своего бессилия. Теперь он в бешенстве ругал даже самого себя, хотя еще недавно это показалось бы Хажи-Бекиру почти богохульством. «Вот и доверяй людям! — думал он. — Какая разница — человек, шайтан, каптар, мулла, парикмахер!»
В дикой ярости выбежал Хажи-Бекир из сакли.
Карабкаясь по узкой дорожке, сложенной из шатких каменных плит, перепрыгивая через грязные лужи и канавки, по которым течет мутный ручей, уносящий весь мусор и нечистоты аула, Хажи-Бекир, будто на крыльях, летел к сельской парикмахерской.
В полутемной комнате под сельмагом Адам в заплатанном белом халате сбривал щетину сельскому охотнику Кара-Хартуму и рассказывал какую-то забавную историю, отчего Кара-Хартум едва не валился со стула. Хохотали и те, что сидели поодаль на скамейке и ждали своей очереди: секретарь сельсовета Искендер, Одноглазый Раджаб, почтенный Али-Хужа и другие. А на площади у магазина, на току, колхозницы складывали снопы ячменя, которые на арбах привозили с поля мужчины.
— Осторожно, осторожно смейся, дорогой Кара-Хартум, — говорил Адам. — Жаль будет, если на таком гладком лице останется след моей бритвы.
— Ну, ну, а дальше? А дальше что? — лепетал, захлебываясь смехом, охотник.
— А дальше…
Но тут Адам обернулся на шум и застыл с раскрытой бритвой в руке, побледнел. И все, кто был здесь, повернулись к сельскому могильщику, который в этот миг и впрямь был похож на ужасного Азраила, ангела смерти.
— А дальше… — еще прошептал парикмахер помертвевшими губами.
Стараясь сдержать гнев и казаться спокойным, могильщик приветствовал уважаемых людей аула. И парикмахер приободрился.
— О, здравствуй, дорогой Хажи-Бекир! — воскликнул Адам. — Садись, садись… Как спал, что во сне видел? Наверное, все покойники снятся, а?
— Н-да! Особенно один.
— Кто же это, а?
— Ты, горбун, ты! — Хажи-Бекир сгреб Адама за ворот и оторвал от пола.
— Я ж, слава аллаху, не покойник… — просипел парикмахер. — Пусти!
— Но будешь! И скоро, если сейчас же не пойдешь со мной к своей жене… Тьфу! К моей жене… и не скажешь тех слов! Понял?
— Ну, нет: она моя жена!
— Врешь, моя!
— А если твоя, так для чего говорить те слова?!
Могильщик растерялся: в самом деле, зачем?
— Ну, допустим, твоя.
— Сам признал: она моя жена! А теперь опусти меня на пол, я не привык к невесомости… Вот так лучше.
— Да, да, друзья, — вмешался Кара-Хартум, — рукам воли не давайте. А языком, пожалуйста, хоть мир переворачивайте! Сначала, дорогой ты наш Хажи-Бекир, следовало бы объяснить, в чем дело. О чем спор?
— Кара-Хартум прав, — сказал Али-Хужа, — раз уж мы оказались свидетелями…