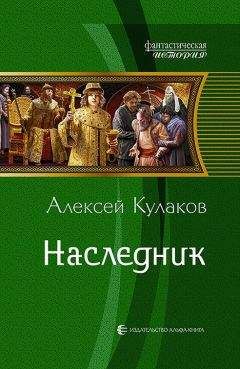Юрий Яновский - Кровь людская – не водица (сборник)
Снова пищали, визжали, трубили комары, допекали, досаждали, донимали, кусали, грызли арьергард десантного флота, и это означало, что утро не замешкается. Небо потускнело, звезды погасли, зашелестел ветерок, заколыхался над водой туман, ночь вдруг вся посерела, все стало блеклым и страшным.
Громко щелкнул с берега винтовочный выстрел, сверкнул даже огонек, далеко покатилось по воде, по камышам эхо. Замелькали еще выстрелы, одного ранили, товарищ Данило приказал не отвечать и приналечь на весла. Гребли веслами и прикладами винтовок, пули свистели, на полном ходу свернули в рукав и отдышались. Утерли пот, сразу же покатившийся по лицам, напились воды, кто из ладошек, кто из ковша, и не успели оглянуться, как наступил рассвет.
Он метнулся от горизонта к горизонту, розоперстый, голубоокий, касаясь верхушек верб. В плавнях и над Херсоном начиналось июльское утро, молчаливо, без темы, без запева, свет бил сверху, как высокий водопад.
Утренний туман, сбиваясь в кучи, блуждал по прозрачной воде, и вдруг, как по команде, вдали затрещали винтовки, застрочил пулемет, ухнуло тяжело орудие. «Швед повел на штурм», — сказал Данило, выждав ритмическую паузу.
Гребцов подгонять не приходилось, впереди на воде вспыхнул ураганный огонь, со всех концов ему вторило и усиливало эхо. «Николаевский матросский отряд двинулся на высадку», — промолвил Данило, испытывая подлинный страх и, как храбрый человек, не показывая его.
Рвались ручные гранаты, крики и вопли неслись ото всюду, шаланда товарища Данилы выплыла на Конские Воды, чтобы включиться в бой, и дала бортовый залп из всех десяти винтовок.
За рулем сидел командир, управляя шаландой. Эскадра николаевских псевдоматросов насчитывала всего-навсего несколько шаланд и дубов, остальные до Алешек не добрались и высадили десант где-то на мирном берегу, чтобы, выспавшись в хлебах, отправиться пешком в Николаев. Кое-какие шаланды николаевского отряда все же выполнили боевой приказ и прибыли к месту сражения. Им следовало высадиться на пустынном берегу и вступить в сухопутный бой, когда пойдет на штурм Алешек товарищ Швед.
А им захотелось изведать морской битвы. Не послушав нового командира, они стали стрелять. Вот и получилось морское сражение, но, в отличие от Абукирского, Трафальгарского, Цусимского или Ютландского боев, здесь один неприятель находился на воде, а другой владел сушей.
Бой, как и все славные морские бои, внезапно начался и, увы, так же внезапно кончился. Николаевцы совсем не маневрировали под пулями и напоминали своими матросскими бескозырками дачников на маскараде.
С берега золотопогонное офицерье садило по эскадре из винтовок. По терминологии старинных морских сражений произошло вот что: корвет атакующей флотилии потерял фок и грот, на палубе смятение, борт пробит неприятельским ядром, капитан спасается вплавь; фрегат на всех парусах врезался в свой же бриг, пять мачт обоих кораблей со всеми ветрилами рухнули как подкошенные; быстроходный клипер вырвался из сражения, забравшись в густые камыши; только небольшая бригантина с адмиралом и штабом мужественно отбивалась.
Шаланда товарища Данилы, бросив тщетные попытки образумить эскадру, двинулась к берегу напролом, стреляя из всех винтовок. Из города доносилась беспорядочная пальба, и неизвестно было — не добивает ли партизан товарища Шведа белая сволочь. Шаланда неслась к берегу, и в самый решительный момент офицерье пустилось наутек в город, утро заклубилось алым клубком на востоке, стало так легко, как во сне.
И, обходя берегом Алешки, чтобы не попасться белым в лапы и определить, где свои, а где неприятель и кто кого добивает, обходя Алешки — городок вольных моряков, рыбаков, баклажанников, абрикосников да целой кучи старых отставных генералов, которые, пользуясь дешевизной, доживали здесь свой век, — заметили двух партизан товарища Шведа.
Они сидели на земле и натягивали на босые ноги изящные сапожки, чуть в стороне лежали два убитых офицера и гладкий пес неведомой иноземной породы. Провожая товарища комиссара к Шведу, партизаны рассказали, что наступление было как под Варшавой, шли песками и по степи, шли цепью, и некогда было глядеть под ноги, к тому же и темень, и это не секрет, что устали и ноги искололи. Так с колючками в ногах и на штурм пошли.
«Подобрались к самой ихней батарее, товарищ Швед взмахнул саблей, мы как закричим да как ударим, бахнули они из орудия, а в пулемет не успели даже ленту вложить. Капитан тут же застрелился, ботинки-то на нем английские, а кадеты постреляли-постреляли и драла. Отбили мы двоих, это не секрет, и погнали к воде. Перестреливаемся, не поддаются, гады, и собака с ними. Постреляли-постреляли, подходим чоботы с убитых снять, а собака не дает, за глотку хапнуть норовит. Живуча была, собачья контра, ты ее добиваешь, это не секрет, а она в штык зубами вцепляется, утро какое пахучее в наших Алешках, товарищ комиссар…»
Из-за угла что-то выкатилось, сияя золотым шитьем, казалось, вели попа в праздничной ризе, от неожиданности даже ладаном потянуло. Это был генерал от жандармерии — старая ракалия, — доживавший свой кровавый век среди благодатной алешкинской природы, его вели два степенных моряка.
На генерале — камергерский мундир, перед расшит сплошным золотом, в золоте и зад, и совсем уж золотой воротник, брюки с красными лампасами, и шапка с другого генерала — вся в золоте, с пучком чудных белых перьев. Грудь, живот, спина в орденах, лентах да звездах, — моряки нацепили на него одного ордена со всех алешковских генералов.
Старая ракалия остановился, задыхаясь от астмы, пузатый, с выпуклыми рачьими глазами. «Шагай, превосходительство», — сказал степенный моряк из будущего романа Данилы. «А куда это вы его?» — «На мертвый якорь», — ответил моряк, подталкивая генерала коленом.
О девятнадцатый год мстителей и плательщиков, справедливый год расчетов и записей в бухгалтерскую книгу Революции, далекий год живых жандармских генералов, начиненных астмой, калом и страхом. Год утраченных образов и трагедийных метафор, год любви и смерти, биения восставших сердец, легкости жертв, сладости ран и глубины классовых чувств, о милый, возвышенный год!
«О вечное человеческое сердце!» — сказал комиссар Данило, направляясь домой. Он увидел Шведа, который стоял среди двора и обнимал свою ядреную и краснощекую морячку. Двор был полон цветов: пышных, буйных, пахучих роз, желтых бархатцев, ноготков, пряных гвоздик, разноцветных собачьих шиповников и подсолнухов.
Товарищ Швед на минутку прервал сцену встречи и через плечо супруги сказал: «Зайди, Данило, к себе на квартиру, и давай собираться, кадеты, того и гляди, опомнятся, и будет не до шуток, говорят, клюнули по твоему дому, не разобрал снаряд, где свои, а где кадет».
Данило кинулся, не чуя ног, в глазах запечатлелись длинная блестящая сабля командира и двор, весь в цветах, и никто комиссара не трогал до момента отступления, хотя до этого вечернего момента много кое-чего случилось в Алешках.
Отряд Шведа перетряс буржуев, поквитался кое с кем из этих «добрых» людей, отправив в Херсон снаряжение, два орудия, несколько лошадей да пару облезлых верблюдов.
На алешковский берег высадились из плавней остатки команд разбитой эскадры. Эти жертвы утреннего морского сражения были ободраны, без фуражек, которые они растеряли в ивняках, камыше да трясинах, ноги изрезаны осокой, исцарапаны корягами. Босоногие жертвы ринулись на Алешки, в поисках врагов, чтобы приодеться и чтобы подкрепиться у боязливых обывателей.
Этих псевдоморяков Швед выловил и отправил вместе с верблюдами на барже в Херсон, день выдался ветреный и ясный, тревожный день отступления из родного города, чтобы вернуться победителями или погибнуть на путях войны.
День прошел в беспрестанном ожидании нападения белых частей, прозрачные высокие облака разметало по всему поднебесью. Отряд товарища Шведа провожали тепло и радушно, у жен глаза были заплаканы, губы припухли. Разговаривали вполголоса, ведь провожали в дальний путь, шаланда отчаливала за шаландой. Швед стоял на передней, небрежно опершись на свою великолепную саблю.
Подошел товарищ Данило, неся на руках младенца, единственное, что у него осталось, ребенка принял от него степенный моряк из эпизода с генералом. Суровое лицо моряка озарилось в детской улыбке, он пощекотал ребенка своим черным пальцем. «Сиротка», — сказал моряк.
Вот и последняя посудина уплывала через Чайку на Конские Воды.
Среди течения на самом дне стоял раззолоченный жандармский генерал при всех орденах, к его ногам был накоротке привязан тяжелый якорь, генерал покачивался в прозрачной воде и шевелил руками.
Письмо в вечность
В то время готовилось большевистское восстание против гетмана и немцев, кто-то донес, что оно вспыхнет и покатится по Пслу, центр его будет в Сорочинцах, и запылает весь округ до Гадяча. Беспределье кануна троицы пламенело и голубело над селом, из лесу везли на телегах кленовник, орешник, дубовые ветки, ракитник, зеленый аир, украшали хаты к троице, во дворах пахло вянущей травой, красивое село стало пленительным, оно убралось зеленью, разукрасилось ветками, хаты стояли белые, строгие, дворы с покосившимися плетнями чистые и уютные, а небесная синь лилась и лилась.