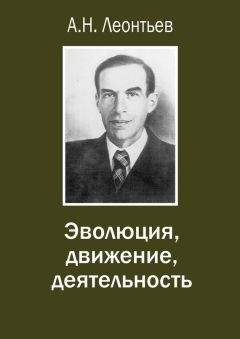Алексей Чупров - Тройная медь
Не снимая полушубка, Федор шагнул в комнату. Чекулаев лежал на кровати поверх одеяла, скрестив ноги в остроносых сапогах на подставленном к кровати стуле. Костюм его был застегнут на все пуговицы, на голове надеты наушники, из-под дужки которых выбивался кудрявый вороной чуб. Сглаженные сном черты обычно заостренного мелкокостного лица делали его незнакомым, а движение выпуклых глазных яблок под закрытыми веками, наушники и провода придавали ему какой-то фантастический вид.
Федор подошел, выключил телевизор, елку, магнитофон, отодвинул штору и приоткрыл балконную дверь.
Внизу, перед зданием школы, от дальних футбольных ворот то и дело вскручивались ввысь, стремительно неслись к дому и, ударяя о него, рассыпались высоченные снежные вихри. Их леденистые запахи так и рвались в прокуренное тепло комнаты, и где-то этажом выше громыхала под порывами ветра балконная обшивка. Странно и грустно было Федору видеть и слышать это, ощущая у себя за спиной привычную комнату общежития; казалось, он прилетел сюда в этих вихрях откуда-то, куда ему уже никогда не вернуться…
— Озверел, что ли? — спокойно, будто и не спал, сказал Чекулаев. — Закрой, на фиг…
— Спи! — Федор обернулся, сдернул шапку и кинул в него.
— Поспишь тут с тобой, — проворчал Чекулаев, снял наушники и сел на кровати. Федор закрыл дверь. Чекулаев принялся нехотя раздеваться, вяло бросая одежду на стул.
— На кухне я там картошечку поджарил, и в холодильнике полбатона «Отдельной», — позевывая, сказал он.
— А ты?
— Я уж и отужинал и отчайничал… А тебя чего, кормили небось? — осторожно спросил Чекулаев.
Не отвечая, Федор сбросил полушубок, снял костюм, расстелил постель, лег и, чтобы разом отгородиться и от Чекулаева и от всего мира, с головой накрылся одеялом… Когда они с Аленой пили чай на кухне — его заставили пить чай, как он ни отговаривался, — она сказала, не поднимая на него глаз:
«Вы простите, Федор… Как-то непроизвольно все получилось. Не обижайтесь на меня, пожалуйста…»
Он что-то отвечал и уже не помнил что, так в ту минуту билось сердце.
— Ну чего, разбудил — давай подробности, — услышал Федор приглушенный одеялом голос Чекулаева.
— Спать, Витя, надо, — ответил он. — Завтра ж в первую.
— Терпеть я не могу эти черные субботы, — сказал Чекулаев и замолчал, но скоро снова окликнул: — Король! Спишь?
— Ну, — нехотя отозвался Федор.
— Есть информация к размышлению… Интересная… — загадочно протянул Чекулаев.
— Говори, — вздохнул Федор и откинул одеяло.
— Начальство-то цеховое, слыхал, какую нам подлянку состроило? На нашу премию за самодеятельность лодку купило, и, выходит, новый бильярд в красный уголок бортанулся…
— Какую еще лодку?! Мы же на собрании решили — новый бильярд! Как это лодку!
— Как это, как это? Так это! Не подводную, конечно, лодку — дюралевую. Купили, и Крокодилыч ее уже на дачу свез… У них на водохранилище участки у всех рядом — и у него, и у завскладом, и у начальника цеха, у Михал Михалыча, и у старого завгара. Я еще когда в гараже вкалывал до аварии, шифер им туда доставлял левый и кирпич шамотовый для бани и для каминов. Полста в рейс — нормалек!
Тот, кого звали они Крокодилычем, был старший мастер их участка Василий Гаврилович Бабурин, с которым Федор вот уже три года находился в «контрах».
Чуть не каждое утро, представляя себе, что опять всю смену придется видеть его расхаживающим взад и вперед по проходу между станками в аккуратнейшем, бутылочного цвета халате, и этот его тщательно уложенный, блестящий от бриолина кок футболиста пятидесятых годов, и эти светло-зеленые широко расставленные глаза, если и взглядывающие в сторону полыновских станков, то именно в сторону станков, а никак не на Федора, — представляя это, он испытывал желание никогда больше не появляться в цехе. Может, чувство было таким острым оттого, что прежде отношения с Бабуриным были сердечными.
С самого прихода Федора в третий механический он с его несколькими специальностями и привычкой к труду (Федор работал с шестнадцати лет) был у Бабурина в любимчиках. На каком бы собрании Василий Гаврилович ни выступал, а выступать он любил и умел, он не забывал упомянуть Федора. «Полынов показывает у нас образцы сознательного отношения к труду…», «…и многим бы подобным товарищам, даже продолжительное время работающим в цеху, я бы рекомендовал брать пример с молодого токаря Полынова». Так говорил он и наряды закрывал наивыгоднейше для Федора. Поначалу Федору казалось, Бабурин делает это от чистого сердца, он бы на его месте тоже поддерживал работящего трезвого парня.
Правда, однажды Чекулаев, к которому Федора подселили в общежитии, невзначай предупредил:
«Смотри, Крокодилыч тебя своим достоверным человеком хочет сделать…»
«Каким таким достоверным?» — переспросил Федор.
«Ну, чтоб, если где чего, так тебе — пятерку, себе — четвертной, и — все чисто… Или прижать кого, кто понесговорчивей. У тебя кулак-то — ой!.. Дело конечно, выгодное, но я гляжу, ты не по этой части, как бы каяться потом не пришлось».
В то время Чекулаев был для Федора одним из многих и многих знакомых на долгом пути по общежитиям и казармам, и что значили его слова, когда в огромном городе жил единственный человек, который ободряюще улыбался ему, ласково похлопывал по плечу: «Тебе, дружок, учиться надо. Иди на курсы мастеров или лучше в техникум, на вечерний. Котелок у тебя варит, а общественность всегда поддержит…»
Как было не поддаться обаянию белозубой улыбки, да и футбол сближал их. Когда, случалось, после игры цеховой команды на заводском стадионе шли пить пиво и Бабурин, душа компании, принимался рассказывать о былом — о Стрельцове, о Татушине, о Пеле, о команде ВВС, где он начинал карьеру левого полузащитника, — то в эти рассказы о самой счастливой своей поре он обязательно вставлял похвалу игре Полынова: «Какие, к черту, шахматы! Ты прирожденный футболист. Ты, дурья башка, форвард таранного типа! Такие ж во все времена — на вес золота, хоть дубль-ве, хоть четыре-два-четыре… Где ты только раньше был? Я бы тебя с людьми свел, сделали бы из тебя классного центрового. Все веселее, чем с чугуном возиться. По свету бы поколесил, замолотил деньжат… Ну, ничего, еще не вечер…» — и смеялся смущению польщенного Федора и бил его по плечу. А однажды привел смотреть его игру каких-то двух спортивных деятелей…
Странно было вспоминать, но он тогда твердо рассчитывал на поддержку Бабурина, даже любил пообещать ему: «Обязательно, Василь Гаврилович, буду учиться. С этой осени начну готовиться в вечерний техникум. Мне не привыкать, я и десятый в вечерней кончал». И пообещав, сам себя в этом уверял настолько, что с удовольствием представлял, как будет учиться и работать, — техникум, потом институт… Будет пахать всем на удивление, чтобы через несколько лет приехать в отпуск к себе на родину, в зауральский совхоз.
И мечтал приехать на собственной машине, солидным инженером, а остановиться не в отцовском доме, а у кого-нибудь из друзей детства, и с отцом не видеться, пока тот сам не придет. И, если бы пришел, постаревший, виноватый, только бы усмехнуться его с детства привычному вопросу: «Как жизнь молодая, брат?» Усмехнуться, но так, чтобы отцу была понятна вся наивность вопроса. «Как живу? Да, конечно, прекрасно! Лучше всех!» Чтобы ему яснее ясного стало, что в душе его старшего сына нет уж и капли той горечи, какой отец отравил его жизнь, бросив семью ради молодой женщины; когда все то, что до шестнадцати лет казалось Федору незыблемым, враз рухнуло, изумив его до презрения к людям жалкой хрупкостью их отношений между собой…
Правда, встреча с отцом получилась иной. Года полтора назад, где-то в начале лета, после первого покоса, он увидел отца на экране телевизора — тот рассказывал о совхозе и бодрым своим армейским шагом водил по главной усадьбе какую-то иностранную делегацию… Чего там только не понастроили за девять лет, что не было Федора… Сухое красивое лицо отца почти не изменилось, разве что виски побила седина да черные большие глаза запали еще глубже. Держался же он, как и прежде, уверенно и гордо, чувствуя за спиной многомиллионное хозяйство со средними урожаями, какие возможны лишь на черноземье, и со стадом коров, дающих почти по пять тысяч литров в год.
Федор смотрел на отца, и мысль о том, что отец за своими совхозными делами и заботами новой семьи совсем забыл его, своего сына, с которым они когда-то были такими друзьями, так любили друг друга, мысль эта оказалась мучительна, и в какой-то момент ему захотелось умереть, чтобы хоть смертью напомнить отцу о себе.
Возможно, отчаяние овладело им оттого, что отец победительно мелькнул на экране в самый разгар неприятностей, нажитых Федором из-за своего рационализаторского предложения… Чего только он о себе не услышал… А кажется, проще простого: почему заготовки для шпинделей должны быть семидесяти пяти килограммов, когда могут быть пятидесяти?! Никакой высшей математики, голая арифметика! Годовая экономия на цех получалась восемьдесят тысяч рублей. А металла-то, металла сколько сберегалось! И человеческого труда! И стружка на черновой обработке не летала бы ножами, а, самое главное, меньше было бы брака… Но у начальства нашлось много отговорок: и горьковский завод, поставщик заготовок, не может менять пресс; и у себя, в черте города, такой мощный пресс поставить не разрешат; и реализация подобных предложений снизит фонд заработной платы… Настырно обивая на заводе пороги разных инстанций, выслушивая от разных людей одни и те же слова, Федор только сжимал кулаки… Он стал собирать вырезки из газет, где писали о людях, чьи изобретения залеживались годами. Чертовщина какая-то получалась. В школьных учебниках с пафосом обличали разбазаривание талантов в проклятом прошлом, доказывали, что Ползунов на двадцать один год раньше, чем Уатт, создал паровой двигатель, Яблочков раньше Нернста — электролампу, Попов раньше пронырливого Маркони — радио… Но это когда было — при царе Горохе. А теперь?! Теперь-то почему так часто человека, что-то свое придумавшего для общей пользы, стараются всеми силами осадить? Кому это надо?