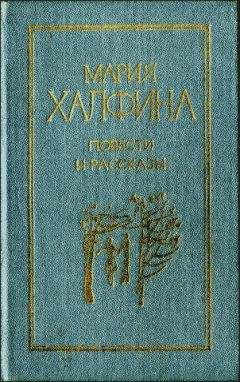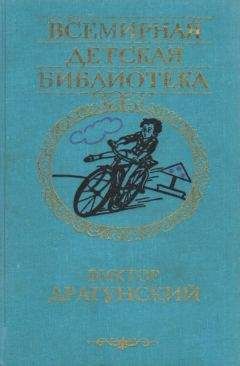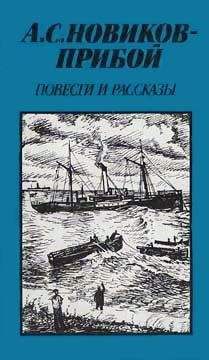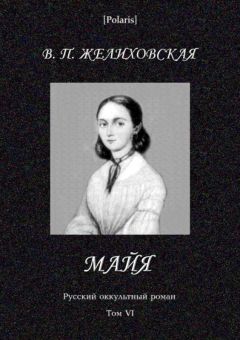Майя Ганина - Избранное
Он зажал коробку в кулаке и закрыл глаза.
Распахнулась дверь, в избу влетела Машенька. Разрумянившееся с холода лицо ее светилось, рыженькие волосы вылезли из-под лихо сбитой набок Ленькиной ушанки.
«Боевая будет, — подумал Федор. — В обиду не дастся».
Машенька быстро оглядела избу и, увидев, что отец и Ванятка спят, сразу посерьезнела. Она неслышно разделась у двери, подошла к зыбке, поправила там что-то, потом на цыпочках подкралась к отцу и накинула на него старый ватник. Федор открыл глаза.
— Спи, спи, — как взрослая, сказала ему дочь, и в ее озабоченном личике со сжатыми тонкими губами Федору почудилось что-то далекое, знакомое.
1956
По Витиму — на материк
Ниже локтя у нее было наколото: «НЕТ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЯ», а на тыльной стороне ладони — половинка солнца и крупными буквами: «СИБИРЬ». Тот, кто разбирался, — а здесь в этом разбирались все — взглянув на наколки, без труда бы определил, что женщина эта в свое время «отбывала срок». Наколки да шея, выше ключицы стравленная кислотой, будто огромное оспенное пятно, а в остальном она была ничем не приметной. В темном шелковом платье с цветами и чулках, несмотря на жару, в туфлях на низком каблуке. Лицо у нее было сухим и белым, вокруг глаз и на лбу прочные, будто она с ними родилась, морщины.
Марокас тронулся. «Овечка», тихонько поджимая жаркий воздух, поволокла болтающиеся на высоких осях вагончики по одноколейке, проложенной к приискам английской концессией в тысяча восемьсот каком-то году. Справа была тайга, реки, в их руслах ворочались, грохая вереницами ковшей, огромные темно-зеленые драги; слева тоже была тайга, реки, драги. Сзади остался пыльный приисковый городишко Артем; шахты, разрезы, старательские артели; впереди их ожидал старинный с темнобревными лабазами городок и судоходная река, связывающая этот кусочек земли со всем миром.
Женщина сидела прямо, прижавшись худым плечом к стенке вагончика, и глядела на молодых мужиков, устроившихся напротив. Мужики разливали в поллитровые банки шампанское. Ей тоже налили полбанки, она медленно выпила, обтерла рот и откусила от плитки шоколаду.
Потом мужики стали пить водку, добывая бутылку за бутылкой из карманов, из дорожных мешков и сумок. Женщина больше не пила, но, когда марокас остановился, сбегала на базарчик, купила десяток малосольных огурцов, которые стоили здесь по двадцати копеек штука, и принесла мужикам.
— Ай да мамка! — сказал самый молодой из них и хлопнул ее по колену.
Появилась еще бутылка, женщина обеспокоенно шевельнулась:
— Хватит тебе, малой!
— Порядок, мамка!.. Последняя!
Молодой, улыбаясь большим ртом, принял от соседа банку, выпил, глянул на женщину захмелевшими веселыми глазами и, увидев, что лицо у ней сурово окаменело и губы поджались, снова положил ей руку на колено и, сильно надавив, пообещал:
— Сказал?.. Порядок! — И опять улыбнулся.
Его сосед поднялся — высоченный, с носатым сальным лицом, качнулся, тупо вытаращившись на женщину.
— Надо выпить… — и помахал растопыренной пятерней. — Договор кончился. Рассчитались. Едем домой. Надо выпить!..
— Вам всегда надо!.. — Женщина полуотвернулась к окну и сердито напряглась, слыша, как звякает стекло о стекло, как булькает жидкость и все громче и горячей поднимается бессвязный разговор, словно пламя, в которое подливают солярки.
Не выдержав, она вскочила, схватила молодого за плечи.
— Хватит. Хватит вам! Что я с ним буду делать, когда сойдем? У нас вещи!
Молодой, посмеиваясь, как от щекотки, посопротивлялся, потом пересел туда, куда она его тащила, и кто-то из друзей тайком тут же передал ему банку с водкой. Он схватил ее и, загораживаясь от женщины, пытавшейся вырвать банку, смеясь и захлебываясь, половину выпил, половину расплескал.
— Не сердись, мамка, — уговаривал ее подавший водку парень. — Друг! Как я могу отказать?.. А я тебя, мамка, уважаю. Вернетесь на материк, заживете тихо, семейно… Я в гости к вам приеду. Примешь меня?..
Женщина не отвечала, вытирая платком облитую водкой рубаху молодого. Тот дурашливо хватал ее руки, тянул, как для поцелуя, толстые губы.
— Ничего… — бормотал он, посмеиваясь. — Ничего… Это она тут сердитая… А дома… И сюда поцелует… И сюда… И сюда… Миленький мой, хорошенький!.. Ненаглядный мой, сладенький!..
— Не болтай, дурак! Эх, ты… — Женщина хлопнула его платком по лицу, багрово покраснела и отвернулась, стиснув щепотью пальцы на коленях.
— А что? — удивлялся молодой. — Что такого? Говорили про нас, а мы живем! И хорошо живем…
Вдруг его замутило и начало тошнить. Женщина вздохнула, села рядом, поддерживая ладонью его лоб, глядела с хмурой нежностью на стриженый покрасневший затылок, на большие вздрагивающие уши.
— Ты ляг, ляг, — уговаривала она его. — Ничего, уберу я… Ты ляг…
Когда она вернулась в вагон, молодой уже спал ничком на тюке, спал и верзила, растянувшись на полу, ворочался, что-то мычал.
В городок они приехали вечером и сидели до утра на пристани, ожидая парохода. Когда пароход подошел, спустились по трапу вниз и заняли две полки в огромном, приспособленном под третий класс помещении трюма. Молодой забрался на свою полку и тотчас заснул, женщина засовала в багажник вещи, легла, повздыхала и заснула тоже. Спала она почти весь день, хотя рядом бегали, играя в прятки и в салочки, дети, ходили люди, гудели гудки, когда пароход приставал или отходил от пристани. Но как только молодой спрыгнул с полки и пошел умываться, она тоже поднялась, причесала тусклые, сломанные «шестимесячной» волосы и украдкой, отвернувшись от людей, протерла лицо розовым пахучим лосьоном. Оправила смятое платье и шагнула было к выходу, но молодой уже вернулся.
— Ну как, мамка? — спросил он. — Едем?..
— Едем…
Они поужинали в ресторане и вышли на верхнюю палубу. Сели рядом, глядели, как плывут мимо берега. За сопки позади них уходило солнце, будто оно оставалось в этих краях, где женщина провела двадцать лет, а там, куда они ехали, было пусто, темно, непредставляемо.
На отвалах забоев по близким к берегу сопкам рыбой белела слюда, и женщина, кутаясь в теплый платок, вспоминала, как в первый свой лагерный год щепала острым ножичком куски слюды на тонкие пластинки и с непривычки часто ранила пальцы. До сих пор, как червячки, вьются на сгибах шрамы.
Река покачивалась, глубоко вспыхивала отраженным небом. Верхняя коротенькая волна, дробясь багряными язычками, добегала до утесов и задевала их. С тех пор как по реке пошли большие пароходы, верхняя волна стала длинней, и след от нее на утесы ложился глубже. Но в бесконечной жизни реки это был такой малый период, что утесы не успели еще заметить его.
Женщина куталась в платок, смотрела на желтые, нагроможденные, как кипы грязных простынь — пласт на пласт, — сланцевые берега и вспоминала тот край, откуда она уезжала. Это был край большого, иссякающего уже теперь золота, край, отрезанный от «материка» бездорожьем и сотнями километров горной тайги. Женщина вспоминала осени и зимы, когда в городке, еще при купцах приспособленном под перевалку, склады ломились от товаров, какие, как думалось ей, на «материке» и не снились. Потом вспоминала, как года три назад караван с продуктами не успел пройти до шуги и застрял где-то чуть ли не в этих самых местах. Весна была голодной — таких не знали они и в военное время… Капризная, часто и необъяснимо меняющая глубину, река кормила край, наполняла его людьми и опустошала его.
В этом краю были свои порядки, свои обычаи. Они велись издавна и держались крепко. Золото, большие деньги, «боны», на которые в магазинах старатели задешево покупали необыкновенные вещи; пьянки, поножовщина, проститутки и нелепое правило, по которому, если ты утаил в шахте или даже украл золото, стоит добежать до скупки и только швырнуть в окно дорогой мешочек — ты вне опасности…
Теперь все изменилось. Наехал иной народ, и в шахтах не работают больше заключенные, в клубах каждый день другие картины, приезжают артисты… Неподалеку строится большая ГЭС, будет хватать электричества для новых драг, для всего здешнего золотого и слюдяного края. Пожалуй, от старого остался только марокас — «маленькая лошадка», японское, времен концессий название…
Женщина глядела на берега, размышляла, как все будет дальше.
А у молодого болела голова, не хотелось ни о чем думать, было скучно. Он выкурил две сигареты, последил, обернувшись назад, как стоят в рубке штурман и рулевой, глядят внимательными глазами на реку; лениво помечтал о том, что неплохо бы такую работенку: четыре часа повертел колесо — и гуляй до следующей вахты. Поднялся.
— Пойду, — сказал он женщине. — Может, где в карты играют. Делать-то чего: спать неохота…