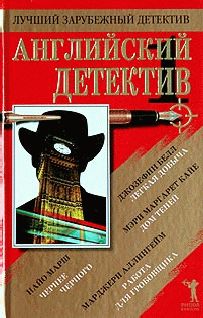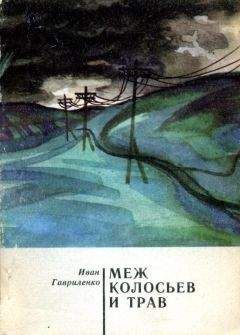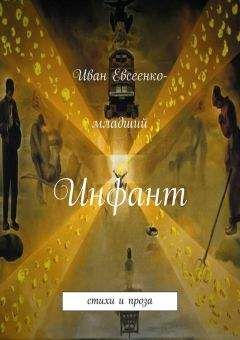Иван Евсеенко - Заря вечерняя
Елка у нас всегда стоит в красном углу, под иконами. Это опять-таки требование бабки, хотя она и сама толком не может объяснить, какая разница, где наряжать елку — под иконами или посреди комнаты? Нам с Тасей, конечно же, хотелось бы, чтобы елка стояла посреди комнаты. Тогда бы мы могли вместе с ребятами водить вокруг нее хоровод под гармошку Толи Коропца. Но с бабкой много не поспоришь. Чуть что, она сразу в плач, в обиду. И особенно если дело касается икон или церкви. Матери с бабкой прямо мучение. Ей, как учительнице, держать иконы в доме не полагается. Не раз и не два матери делали замечание инспектора из роно и всевозможные уполномоченные. Но бабка Марья ни о чем и слушать не хочет. «Вот умру, — плачет она, — тогда снимайте». До недавнего времени мать отступала, лишь бы не волновать бабку, у которой и без того высокое давление и больные глаза, но после очередной проверки прошлым летом она все-таки иконы сняла и спрятала в скрыню. Дальше тянуть было нельзя. Уполномоченный сказал матери: «Либо работа, либо иконы!» Бабка смирилась, но потребовала, чтоб вместо икон в красном углу висела Тасина вышивка болгарским крестом, на которой были изображены книги и чаша. По бабкиному разумению, книга эта обозначала «Евангелие». Осталась икона лишь на кухне. Тут уж бабка была непреклонной. Кухню она считала «своей» комнатой и вольна была в ней распоряжаться, как хотела. Мать на это согласилась. В случае чего была, хоть и шаткая, но все ж таки отговорка. Мать собственноручно повесила на кухне любимую бабкину икону с изображением божьей матери и младенца. Икона эта когда-то «обновилась», и бабка ею очень дорожила.
Соседи немного поговорили, посудачили о наших иконах, спрятанных в скрыне, и успокоились. Все в общем-то понимали, что иначе матери поступить нельзя было. Но через несколько лет у нас в доме опять возник разговор об этих иконах. Из тюрьмы вернулся муж бабкиной младшей сестры Анюты дед Черный. Он и вправду был черным, высоким, вполне соответствуя своей фамилии, всегда носил усы: то маленькие щеточкой под самым носом, то чуть побольше унтер-офицерские с воинственно загнутыми вверх кончиками. Родом дед Черный был не из наших мест. Он и разговаривал не по-нашему, мягко и нараспев, якая. Во время войны Черный служил в Малом Щимле в полиции и, видимо, за ним числились какие-то темные дела, иначе бы он после освобождения попал не в тюрьму, а на фронт, как попали туда многие из бывших полицейских. Судя по всему, Черный кое-что знал и о гибели нашего отца, но помалкивал. Пришел он к нам в длиннополой солдатской шинели, которая сохранилась у него со времен первой мировой войны, в черной казацкой папахе набекрень. Видел я тогда деда Черного в первый раз, и он мне очень понравился. Вид у деда был самый воинственный, не хватало только на боку сабли. Но разговор Черный повел унылый, жалостливый. Как и большинство полицейских, отбывших тюрьму, он считал себя пострадавшим безвинно и теперь ругал всех и вся за то, что его не брали на прежнюю работу в депо. Бабка Марья поддакивала ему, но как-то затаенно, недоверчиво, и он, видимо, почувствовав это недоверие, тяжело и глухо произнес покаянную фразу:
— Перед вами я не виновен. Вот мой крест!
Сложив длинные прокуренные пальцы щепоткой, дед Черный повернулся лицом к красному углу и уже приготовился осенить себя крестом, как вдруг обнаружил на месте икон Тасину вышивку.
— Значит, так, — обронил он руку и осуждающе посмотрел вначале на бабку, а потом на мать, — бога забыли?!
— Никто его не забыл, — вспыхнув, обиделась бабка Марья.
— А где ж иконы?
— В скрыне хранятся. Нельзя Гале. Ругают ее.
Дед Черный степенно, не спеша начал сворачивать цигарку, долго разравнивал на газетке табак, долго слюнявил ее, наконец чиркнул спичкой:
— Чего ж раньше-то не ругали?
— Раньше время было другое, — еще больше посуровела лицом бабка Марья.
— Греха раньше боялись, — раскурил цигарку дед Черный, — а нынче все дозволено, от этого и погибель на вас!
Бабка Марья что-то собралась отвечать, но мать перебила ее, стала приглашать всех за стол.
Дед Черный перебрался с табурета на лавку, пригладил и без того аккуратно на косой пробор расчесанные волосы, но от рюмки, которую мать налила ему, вдруг отказался:
— И пить не стану!
— Ну, как знаете, — ответила мать.
Дед Черный посидел несколько минут молча, изредка поглядывая то на Тасину вышивку, то на мать, а потом выпил и одну рюмку, и другую, и третью. Закурив новую цигарку, он опять пустился в длинную затяжную беседу:
— Вот почему я столько лет в тюрьме вытерпел? Да потому, что бога не забывал, в душе его всегда держал.
— С богом, понятно, легче, — простодушно соглашалась с ним бабка.
— А вот ваш Иван в партейные записался, иконы тоже небось на улицу выбрасывал. Бог от него и отвернулся и не сохранил в войне.
— Может, и так, — опять не стала спорить бабка Марья. А мать в разговор не вмешивалась, будто все это ее совсем не касалось. Она подавала на стол, гремела возле печки ухватами, несколько раз выходила зачем-то в коридор.
От выпитой водки дед Черный еще больше разгорячился и уже давал советы бабке Марье:
— Иконы лучше в церковь отдайте. Все не такой грех.
— Пока я живу, пусть лежат, — неожиданно заупрямилась бабка, — а после, как дети пожелают.
Иконы эти до сих пор хранятся в нашем деревенском опустевшем доме. Они пережили и деда Черного, и бабку Марью, и нашу до срока умершую мать. Можно, конечно, выбросить. Нам с Тасей они вроде бы без надобности. Но ведь бабка Марья молилась им, верила им искренне, надеялась, что они отведут беду от нашего дома, в том числе и от нас с Тасей. Молилась она перед ними и за отца, за его возвращение…
Посидев еще немного в комнате, послушав разговоры деда Черного, мы с Тасей побежали на улицу кататься на санках и лыжах — разговоры эти были нам малопонятны да и вообще-то неинтересны. А когда вернулись, на столе все уже было прибрано и мать под диктовку деда Черного писала письмо в Верховный Совет. Он, оказывается, пришел к нам именно за этим. Склонившись над столом, волнуясь и переживая, дед Черный просил мать первым делом рассказать в письме о его довоенной работе на железной дороге, потом о войне, о том, что в полицию он пошел не по своей воле, а по принуждению и что никакого участия в карательных операциях не принимал. В конце письма дед Черный излагал свою просьбу. Он хотел, чтоб ему разрешили доработать на железной дороге до пенсии. А оставалось ему до нее самую малость — всего года два-три.
Вскоре деду Черному такое разрешение действительно дали. То ли подействовало материно письмо, то ли его многочисленные походы к местному начальству. Правда, работать он стал не в депо, как прежде, а сторожем в железнодорожном пионерском лагере, который находился в лесу, неподалеку от Щорса. Но дед и этому был несказанно рад. Иначе ведь ему надо было бы идти в колхоз, а там в те годы пенсии еще не давали. Он повеселел и, приходя к нам, теперь уже не заводил никакого разговора об иконах. Лишь однажды, когда матери не было дома, он снял шапку, перекрестился на бабкину икону на кухне:
— Вот при детях божусь, греха на мне против вас нет.
— Ну нет, значит, нет, — вздохнула бабка Марья и не стала ничего расспрашивать у него о нашем отце.
Ни разу не спросил об отце у деда Черного и я, хотя мне после приходилось с ним подолгу и обстоятельно беседовать. Через несколько лет мы начнем строить новый дом, и дед Черный, помогая нам, научит меня конопатить мох, обивать дранкой стены и потолок, ошкуривать стругом латы. Научит он меня и многим другим строительным премудростям, но разговора об отце у нас так и не случится: я не спрошу, он — не скажет…
Умер дед Черный в начале шестидесятых годов во время моей службы в армии. По рассказам матери, умер он быстро, в одночасье, долго не болея и не мучаясь. Бабка Анюта пережила его лет на пятнадцать. Не по годам крепкая, работящая, она за рюмку водки, к которой не на шутку пристрастилась на старости лет, ходила по чужим работам: кому побелить в доме, кому вскопать грядки, кому сжать на огороде рожь. Подолгу она жила у нас, помогая матери и бабке Марье нянчить Тасиного сына Сережу. Умерла Анюта где-то на стороне, кажется, в Киеве, у племянницы, которой отписала свой деревенский обветшалый дом. После ее смерти теперь в Малом Щимле вряд ли кто скажет, где могила деда Черного. Заросла она, наверное, полынью и пыреем, и на радоницу никто ее не убирает, не посыпает белым песком, не ставит поминальную свечку. А ведь дед Черный, по рассказам матери, надеялся именно на это. Перед смертью он вдруг зачастил в единственную оставшуюся в округе Носовскую церковь, стал там своим человеком среди священников и прихожан, заботился о ремонте ограды и крыши, входил даже в церковный совет — двадцатку.