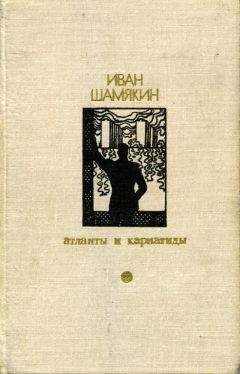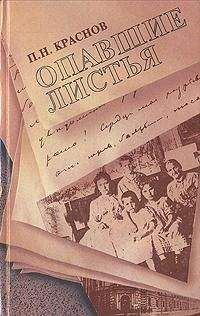Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
Нехорошо, что больной человек разволновался, но Полю это успокоило: значит, злорадство деланное, а на самом деле он крепко расстроен.
Сыну эту новость Виктор сообщил в тот же вечер совсем иначе, с болью и горечью:
— Бюро горкома сняло Карнача.
— Ну и что?
— Как что?
— Никому от этого ни холодно ни жарко. Подумаешь, должность! Что он решал?
Виктор раскричался так, что испуганная Поля прибежала из кухни.
— Много ты понимаешь, молокосос! Лепите с Макоедом бездарные сундуки…
— Сундуки мы одинаковые лепим. Твои не лучше.
Поля поспешила выставить сына из спальни.
— Как не стыдно! Отец болен, расстроен, а тебе непременно надо наперекор… Чтоб не смел больше попрекать его проектами! Слышишь? Распустился. Поработай ты столько…
— Мама, ты глушишь творческую дискуссию.
— Не нужна мне такая дискуссия. Мне нужен мир в доме.
На другой день, когда упала температура, а с ней и возбуждение, наступила гриппозная слабость. Виктор больше не ругал Максима, а как бы жаловался на него каждый раз, когда Поля входила в спальню. Внимание его отвлекала только Катька: ее не отпускал жар, она попросилась к отцу, и Виктор читал ей сказки вслух.
Раскипятился только раз, когда Поля сказала, что Максим, верно, меньше расстроен из-за своего увольнения, чем он.
— Что ему расстраиваться! Вольный казак. Ни жены, ни детей. Собрал чемодан и поехал искать счастья в Минск, Москву, Киев. Куда хочешь. Страна большая. И архитектора такого везде примут с дорогой душой. Я так не сорвусь. Я связан не только работой… Как ты не понимаешь… У меня был друг, советчик. Я надеялся, что с его пробивной силой мы добьемся чего-нибудь в Заречном районе. А что я сделаю без него? Ты знаешь, какой я пробивала.
— Может быть, он никуда не уедет… — попыталась утешить мужа Поля. Виктор саркастически хмыкнул— какая наивность!
— А что, пойдет в мастерскую к Макоеду?
На третий день Виктор примолк. Его угрюмая задумчивость не понравилась Поле, это признак не только физической слабости, но и душевной депрессии, чего Поля всегда боялась больше гриппа, ангины, воспаления легких. Когда она кормила свой «лазарет» обедом, Виктор сказал:
— Слушай, почему он не заходит?
— Максим?
— Максим. Может, тоже захворал? Валяется в Волчьем Логе один…
Полю растрогала, задела за сердце и… обрадовала забота мужа о друге. Но сама она через несколько минут, моя посуду, уже почти с такой же тревогой, как о детях и о Викторе, думала о Максиме.
Не утерпела, пошла будто бы в магазин, из автомата позвонила Даше, спросила, где Максим.
В ответ услышала холодный, враждебный голос:
— Это я должна у вас спросить, где он собакам сено косит. Вы его опекаете, вы его наставляете. Добренькие… Да на что хорошее наставили? Семью разбили…
Ошеломленная Поля повесила трубку. Выходит, Даша обвиняет в своей беде их, Шугачевых. Это так обидело и взволновало, что Поля даже не решилась сразу рассказать Виктору. Только сказала:
— Его действительно нет в городе. Я звонила Даше. А еще через полчаса не выдержала:
— Я поеду, Витя. Мне все равно надо взять малиновое варенье, поить вас. Я там в погребе оставила баночку.
Он потом не мог разобрать, где был сон, а где бред. Помнил только, что реальные события, голоса живых людей перемежались невероятными, фантастическими картинами, разговорами с теми, кого уже нет. Хоронил мать с той же доподлинностью, как это и было, и тут же мать приходила живая. И он, помня, что она умерла, не удивлялся, ему было хорошо с ней, но иногда становилось тревожно и страшно — не за себя, за нее. Вдруг начинало казаться, что из-за него мать куда-то опаздывает. Но тут же думал: куда она может опоздать, если она умерла? Да и при жизни она никогда никуда не спешила и никогда никуда не опаздывала. Он об этом, между прочим, тоже думал в своем сне-бреду. Иногда события развивались с той логической последовательностью, с какой происходили. Даже с большей. На бюро горкома ему надо было выступить с обширной речью. Эта мысль жила где-то в подсознании. И он выступал. Говорил долго и очень убедительно, с необычайным красноречием. Защищал город. Свой город. Тот, о котором они мечтали вместе с Шугачевым. И показывал проект, которого не существовало. И сам восхищался сказочной неповторимостью города, который будто бы уже строится. Удивился, что Игнатович не понимает этой красоты и неповторимости. Игнатович всегда так хорошо его понимал. Что случилось? Ах, Даша. Все запутала Даша. И сразу после такого реального воспроизведения событий — кошмар. Он бросается в реку, чтобы спасти девушку. Хватает ее и — о ужас! — видит, что держит Вету. Нет, не Вету, только половину ее тела, без головы.
А потом появлялась Даша. Она появлялась много раз. То они мирно купали маленького ребенка, Максим только не знал, девочка это или мальчик. В другой раз вели не менее логический, чем его выступление на бюро, диалог об их отношениях. Он даже удивился, что Даша может говорить так спокойно, рассудительно, разумно. А потом она вдруг со страшной злобой, отвратительно исказившей ее лицо, замахнулась на него, но ударила по большому зеркалу, оно разлетелось вдребезги. Зеркало было не одно, их было много — анфилада зеркальных дверей, конца и края нет. И он не видел живой Даши, он видел ее отражение, и в каждом зеркале она была другая — добрая и злая, красивая и уродливая, плачущая и смеющаяся. Потом зеркала начали разлетаться со звоном, с зелеными брызгами стекла. С портального крана сорвалась железобетонная балка. Он подумал, что где-то там Даша, ведь, если он видел ее отражения, значит, и сама она где-то там. И он бросился ее спасать, пробирался сквозь невероятное нагромождение покореженного металла, обломков бетона и стекла. Тогда он, будто проснувшись, подумал, что разбились не зеркала, которые он видел во сне, а разрушен его город, тот, реальный, неповторимый, который спроектировали они с Витей Шугачевым. Стало больно и жутко, потому что он вдруг догадался, кто разрушил его город. И ему захотелось поговорить с этим человеком — президентом далекой страны. Он рвался в его кабинет, а его не пускала Галина Владимировна. Не пускала странно и смешно — пыталась обнять. Ему тоже захотелось обнять ее. Но он отлично понимал, что если обнимет эту женщину, то уже не выполнит своей высокой миссии, от которой зависит судьба других городов. Он все-таки прорвался к президенту и был возмущен, увидев в президентском кресле Макоеда. Грубо, по-матросски плюнул на устланный пластиком пол. Макоед хлопнул в ладоши, как шах, и выскочила стража — какие-то фантастические существа, словно пришельцы из других миров, в блестящих касках пожарников. Они больно скрутили ему руки, бросили на пол и потащили по очень скользким и очень холодным мраморным плитам. Через минуту «марсиане» исчезли, и он сам скользил, вставал и падал на реальных плитах — в центральной аллее Купаловского сквера в Минске. Автор этих необыкновенных «дорожек» стоял сбоку, показывая на него пальцем, и хохотал над тем, как Карнач отбивает себе зад. Потом снова пришла мать, вся в белом, точно подвенечном. Пощупала его лоб и грустно сказала: «Ты захворал, сынок. Идем со мной». Он хотел подняться и пойти за ней, но не смог.
Только под утро, когда, должно быть, упала температура, он уснул глубоким сном.
Проснулся от солнечных лучей. Новый день начинался весенним солнцем и глубокой синевой неба, глядевшего в незашторенное окно. Но солнце не обрадовало — с ним вместе вернулся мороз, и легкое строение остыло, хотя и был включен всю ночь масляный электрорадиатор.
Кот сидел на кресле у постели и смотрел на хозяина недоуменно и несколько испуганно: может быть, он во сне кричал и этим напугал кота.
— Что, Барон?.. Будем собираться в дальний путь?..
Кот жалостно мяукнул, как будто понял смысл слов и высказал свое огорчение.
Максим имел в виду, что засиживаться ему тут нечего, надо куда-нибудь уезжать, устраиваться на работу. Но вспомнился сон, как звала его мать, и слова приобрели другой смысл, смысл последнего пути, о котором думает каждый старик или тот, кто в силу каких-то обстоятельств подвел определенную черту подо всем, что им сделано за его долгую или недолгую жизнь. У него таких обстоятельств было не одно, несколько за очень короткое время, и каждое действительно заставляло подводить итог: любви, семейной жизни, творчеству, трудовой и общественной деятельности. Что же осталось?
Не будучи мистиком, он сперва подумал об этом с грустным юмором. Но тут же почувствовал, как сердце пронзила боль — боль обиды, отчаяния. И страх. Страх от этого жуткого вопроса — ч т о ж е о с т а л о с ь?
После потери жены, матери, дочки (снова подумал, что дочку он тоже потерял), друга оставалось у него одно — работа и город, который он полюбил и которому отдавал свой талант. Теперь отняли и это. За что?