Василь Земляк - Зеленые млыны
Квартировал он у бабки Отчеиашки, платил ей за стол и за хату, а печи клал и в самом деле замечательно. Свод выкладывал из синего камня, дымоходы украшал карнизами, а подпечков делал несколько — для соли, для спичек, и даже для щеток и метелок, нужных, чтобы убрать печь. Тем, кто платил за роспись, разрисовывал печи павлинами, петушками или орнаментом со старинных вавилонских рушников. Явтушок хотел было переложить и свою печь, зашарканную детьми до неприличия и к тому же — с полуобвалившимся сводом. Как то с Присей весь день ходили по хатам, где уже стояли печи знаменитого мастера, и выбрали прекрасный образец — остановились на печи Скоромных, которая и в самом деле была совершенно непривычной для Вавилона. Чело печи походило на цельную стену, украшенную старинной вавилонской росписью, с искусно вмонтированной отдушиной и огромным подпечьем, а сама печь была точно уютная двухэтажная комната, на второй этаж вместо обычной лежанки вели ступеньки, выложенные из красного кирпича. Так и хотелось снять сапоги и подняться по этим ступенькам на теплую печку, и, несмотря на то что на дворе стоял июнь, Явтушок с разрешения Стратона Скоромного, хозяина хаты, снял таки сапоги и совершил восхождение на свою будущую печь. Больше того, он даже полежал на ней в своем чиновничьем костюме, чтобы уж окончательно убедиться во всех ее преимуществах. «Делаю!» — сказал он, сойдя вниз. Но в этот самый день мастером заинтересовался Пилип Македонский, и Явтушку так и не удалось осуществить свой замысел. Печник попал в знаменитую когда то Брацлавскую тюрьму, говорили, что он как будто оказался немецким агентом, владельцы сложенных им печей с опаской поглядывали на его творения, поговаривали даже, что все эти печи в один прекрасный день подорвутся на минах, замурованных в них этой сволочью. В Зеленых Млынах несколько печей будто и взорвались в первый день войны, в Вавилоне же все обошлось — печи целы, другое дело, что кое кто из хозяев уже никогда не вернется к ним с войны, не взойдет по ступенькам на свою чудо печь и Стратон Скоромный. Явтушок собственноручно похоронил его на реке Синюхе. А вот самого мастера черт не взял, сидит в черном сукне, из которого Великая Германия шьет мундиры для полицейских. («И надо же было наготовить загодя именно такого густо черного сукна для этой шайки предателей», — подумал Явтушок, чьи взаимоотношения с совестью сейчас, в эту минуту, были так налажены, что он и мысленно не примерял на себя этот черный мундир.) А вот печь, такую, как у Скоромных, Явтушок и сейчас не прочь бы сложить у себя.
— Господин Манжус, — начал он, положив патроны в карман, — ваши печи и до сих пор приводят в восхищение вавилонян, и хоть вы сейчас и в чинах, а не могли бы вы… Простите, конечно, может быть, это совсем невежливо с моей стороны, но для истинного украинца печь — все равно, что для верующего алтарь. Это и тепло, и уют, и отдых, и лечебница, а если печь еще хорошо сложена, то и наслаждение для глаз. Мне хотелось бы печь с красными ступеньками, господин Манжус… Краса невыразимая, подымаешься туда, как в храм…
Манжус был растроган этой речью, глазки у него загорелись, а усики «а ля Гитлер» встопорщились от улыбки («Раньше то у мастера были обыкновенные усы», — отметил Явтушок.)
— У господина Голого есть марки? — спросил мастер.
— До сих пор в глаза их не видал. В Вавилоне пока что ходят наши деньги.
— Ни слова о них, с этими деньгами покончено навсегда. Если вы заплатите мне вот этими, — он вынул из нагрудного кармана пачку и подал Явтушку, — то я согласен поставить вам печь. За тысячу марок! — засмеялся Манжус, отбирая у Явтушка немецкие деньги.
Его смех задел Явтушка за живое, это был презри тельный смех, и Явтушок сдержанно ответил:
— Э, не говорите, наши деньги были гораздо большего размера и производили впечатление. Вы держали когда-нибудь в руках тысячу рублей в одной купюре?
А я держал, и не раз, когда платил погорельцам страховку. Но — печь за тысячу марок? Когда у меня нет ни одной?..
— Будут… Раз уж вы стали на этот путь… господин Голый.
— На какой путь?
— На какой? Вам еще надо это объяснять? Неужели вы думаете, что господин Рихтер может выдать винтовку первому встречному? Вам не о печи надо думать, господин Голый, а о Сибири. Вернутся наши — они ни за что не простят вам этой винтовки, полученной из рук шефа гестапо.
— Но ведь и вы… я вижу… вооружены? («Испытывает, сволочь», — подумал Явтушок).
— А вы что же думали? Что Глинск может обойтись без Пилипа Македонского?!
— Неужто передо мной товарищ Македонский? — Явтушок невольно поклонился, весьма близкий к тому, чтобы поверить в это. Он даже нашел некоторое сходство в чертах лица, но усы заставили его отбросить это предположение, и он добавил, готовя себе путь к отступлению. — Разумеется, я шучу, господин Манжус.
— А вы не шутите, потому что это может быть и есть он, воплотившийся во мне. Смена властей еще ничего не означает. И при немцах можно оставаться патриотом и даже Македонским. Если тут, — он показал место под черным сукном, — бьется настоящее сердце. Я уверен, что, окажись Македонский здесь, мы с вами — впрочем, я могу говорить только за себя — нисколько не проиграли бы. И если бы мне выпала такая возможность, то я воспользовался бы ею без всяких колебаний. Хотя, как вы знаете, у меня были основания переметнуться к ним. Ну, а вы хоть колебались?
— Колебался. Очень колебался…
Явтушок совсем растерялся, не зная, кто перед ним.
— И что? — Манжус прошел к двери, выглянул в коридор. Прикрыл дверь.
— Как видите. Оказался при том же, что и вы…
— Вам можно верить? Товарищ Голый?
Явтушок молчал. В нем боролись страх и совесть, но страх был явно сильнее, и Явтушок не мог дать сколько-нибудь определенный ответ на вопрос Манжуса (гос подина или товарища? — вот в чем была для Явтушка
главная закавыка). Манжус ждал, постукивая по столу костяшками пальцев. Звук был такой, словно костяшки из металла, оловянные. Явтушок в эту минуту не мог вспомнить, из какого металла делают пули. Все же он выдавил из себя ответ, единственно возможный при создавшихся обстоятельствах:
— Можно, господин Манжус. Только не сразу же…
— Ждать некогда и невозможно. Завтра уже может быть поздно. Подойдите ближе. Не бойтесь. Теперь то уж вам нечего бояться…
— Конечно, конечно… — Явтушок поставил свою винтовку к стене, чтобы дать душе чуток отдохнуть от нее.
— Кроме меня и вас, ни одна душа не должна знать об этом. Это смерть, муки, пытки…
— Говорите, пока я еще жив…
— Они согнали сюда из окрестных городков около двухсот еврейских семей. Вы, вероятно, видели их, они мостят дорогу.
— Видел. Здоровался с ними, там много знакомых. Из самого Глинска. Лейба Маркович, Абрам колбасник, мой парикмахер Матвей, я ведь, поступив на службу, все последние годы стригся только в Глинске. А какие колбасы были у Абрама! Я лучших колбас нигде в мире не пробовал. (Явтушок дальше Глинска нигде не бывал, за исключением разве своей неприглядной одиссеи в тридцатых годах, но тогда ему было не до колбас.) — Неужели их расстреляют? Неужели им, немцам, не нужны колбасы? Неужели они привезли сюда парикмахеров?
— Да, их расстреляют. Возможно, завтра.
— Они знают об этом?
— Знают. Я им сказал. Отвратить их смерть уже невозможно. Есть приказ какого то Кейтеля по армии и всем гарнизонам. Эти роботы умеют выполнять приказы.
Вбежал совсем молоденький полицейский. С порога отдал честь. Доложил:
— Господин начальник, в Зеленых Млынах задержали женщину, которая отпирается, что она Мальва Кожушная. Мы привезли ее сюда. Привести?
«О, боже, — Явтушок вздохнул. — Мне сейчас не хватает только встречи с Мальвой Кожушной!» Манжус словно угадал его мысли: — Через полчаса.
— Слушаюсь. Вылитая Мальва Кожушная. По той карточке, что вы нам показывали.
— Разберемся.
— Это же наша, — сказал Явтушок, когда шаги по лицейского затихли.
— Я знаю. Они приводят сюда уже третью Мальву» Но все равно я думаю, что самой Мальвы нет. в районе.
— Те два тэ у господина Рихтера…,
— Сейчас же идите и скажите это ему…
— Кому?
— Ну, господину Рихтеру… Мы стоим на том, что знаем меньше, чем знаем на самом деле. Чем меньше будем знать мы, тем меньше узнают они. Полагаю, вы меня понимаете?
— Я был ординарцем у генерала…
— Детей могут расстрелять вместе со взрослыми, Не могут, а наверняка расстреляют. Сколько детей может укрыть Вавилон?
— Когда?
— Сегодня. Нынче ночью. На рассвете может быть уже поздно.
— Сколько прикажете, господин Манжус…
— Вы на подводе?
— На площади меня ждет Савка с лошадьми.
— Это тот, что вечно смеется?
— Теперь перестал. Прослышал, что немцы расстреливают сумасшедших. Больше не раскрывает рта. Мол чит как рыба.

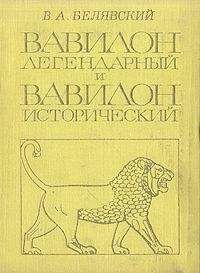


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)