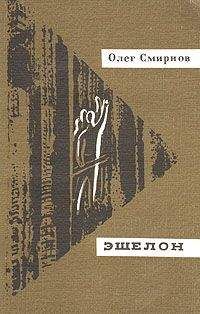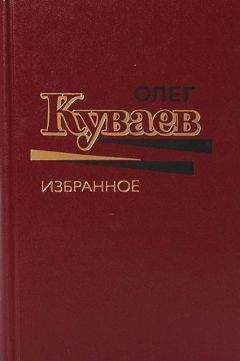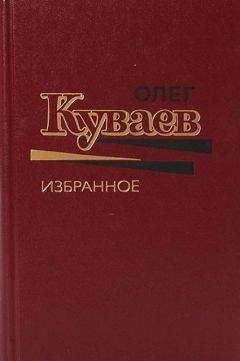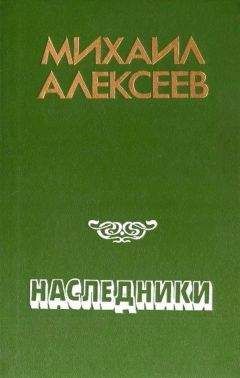Олег Смирнов - Проводы журавлей
— Братцы кролики! — командовала Маша. — Витенька, в постель! Вадик, в ванную!
— Я уже лежу, мам.
— За-сы-пай! Вадик, под душ!
— Иду, иду.
— Быст-рей!
Ну, когда Маша разделяет слова по слогам, действительно лучше поспешить.
Наверху еще погромыхивали мебелью, за стеной дребезжало пианино и два разбитных голоса наяривали: «Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вы наши звезды, как сказал поэт!» А ведь это не поэт сказал: звезды шепочут. Ну да бог с ней, с той далекой женщиной. Уложив, или, как выражалась Маша, усыпив сына, они сели на кухне-столовой друг против друга, и Мирошников показал завещание. Маша прочла, сказала:
— Надо выполнять волю покойного.
— Разумеется…
— На обстановку я погляжу. Вместе решим, что продать, что отдать. Хочется поскорей разделаться с этим…
— Разумеется…
— И все! Завтра сходим и к нотариусу. Насколько я знаю, родственные отношения можно подтвердить свидетельством о рождении, выписками из личных дел умершего и наследников…
— Свидетельство о рождении у меня есть.
— И прекрасно. С метрикой, завещанием и паспортом пойдем в нотариальную контору. А с этим что? — Она ткнула пальцем в стопку папок, писем и тетрадей на стуле.
— Пока спрячу. Будет время — просмотрю, ознакомлюсь.
— Удобно ли читать чужие письма?
— Я не чужой, я сын. И к тому же там могут быть какие-нибудь деловые бумаги. Там ведь не только письма…
— Пожалуй, ты прав.
Мирошникову понравилось спокойствие, с каким жена отнеслась к завещанию, к крупной сумме, которая им доставалась, и к крупной сумме, которая им не доставалась. Никакого волнения, никакой суеты — не то что нетерпения или жадности. И желания совпадают: побыстрей покончить с этим. Однако у них будут деньги, и они давно мечтали об автомобиле…
— Машучок, теперь можно подумать и о «Жигулях», — сказал Вадим Александрович.
— Можно, — спокойно, почти равнодушно ответила жена, и это тоже понравилось ему; не суетится, ведет себя с достоинством, молодец. И видно: «Жигули» его интересуют больше, нежели ее. Хотя пользоваться будем все. А поскорей купить поможет тесть. И сядет он в свое авто, а на заднее сиденье — жена и сын.
Внезапная нежность охватила его. Он пробормотал: «Машучок, как я счастлив, что ты есть у меня!» — и потянулся к ней через стол, не доставая. Она засмеялась, сама подалась к нему, и они расцеловались. И, целуясь уже, он подумал, что на работу будет ездить на «Жигуленке», попутно завозя Витюшу в школу, а Машу — на ее работу. И время сэкономят и удобно! К чертовой бабушке общественный транспорт с его давкой и нервотрепкой!
А ведь я и сам умирал, считайте — почти что умер. Так-то. После института надо было отслужить действительную. В институте связи была военная кафедра и, следовательно, военная подготовка, при окончании вуза нам, парням, присвоили «лейтенантов». В таком высоком звании я и был направлен на курсы «Выстрел» под Москвой. Когда нынче вспоминаю об этом, приятели понимающе кивают: дескать, при таком-то тесте… Но тестя у меня тогда не было, и никаким блатом я не пользовался. Просто военкомат распорядился так, что вместо Кушки или Курил я попал в Подмосковье. Фортуна! На «Выстреле» совершенствовались старшие офицеры, а я командовал одним из взводов, обслуживающих эти курсы. Нормально командовал, кандидатом в члены партии приняли. Но однажды на полевых учениях, в холод и дождь крепенько простудился, схватил тягчайшее воспаление легких. В госпитале очутился после некоторой волынки, состояние — критическое. И в тяжелую из тяжелых ночь начал отдавать концы. Меня бросились спасать, а я — в точности это помню — на грани небытия услыхал резкий звук и будто лечу через темное пространство, возможно, тоннель. Приближаюсь к некоей границе, рубежу, пределу. И уже я в лодке, плыву по серой воде, прикрытой серым туманом, на другом берегу вижу своего, по маме, недавно умершего дядю, он зовет меня к себе, а я повторяю: «Дядя, с тобой соединимся погодя, я хочу еще пожить». Вижу дядю и вместе с тем вижу склонившихся надо мной врачей и сестер, обе картины как бы накладываются одна на другую. Лодка едва коснулась берега — и тут же отчалила, повернула обратно, а в следующий момент ко мне возвратилось обычное сознание. Я понял: был у берега смерти, но возвратился к берегу жизни.
Это же подтвердил и отец, когда я ему все рассказал. Он был очень взволнован, цепко держал меня за руку и не отпускал, стараясь не глядеть на моих сопалатников. Потом тихонько сказал:
— Я тоже умирал в госпитале. На войне, от раны в грудь… Был миг, как у тебя, только по-другому… В смертную минуту я почувствовал, как стремительно двигаюсь к черной пустоте, сменившейся бледно-серым светом, и передо мной внезапно зажегся свет. Золотой до неправдоподобности. Я уже различил впереди людей и что-то похожее на здания. Но мое движение стало замедляться, прямо передо мной возник давным-давно умерший отец, твой дед, и преградил путь. Через мгновение очнулся и ощутил сильнейшую боль в груди. Хирург сказал: «Ты, лейтенант, воротился из-за той черты. Ведь и зеркальце не затуманивалось от дыхания, и зрачки закатились…» Знаешь, Вадим, после этого я вроде обновился душой, вроде ответственней жить теперь надо. И страх перед смертью исчез…
А я после моего госпитального умирания стал бояться смерти. Но чувство духовного обновления испытал — факт.
Ну а умри отец тогда, не было бы меня. Умри я после войны — не было бы Витюши. Вот какая цепочка…
— Послушай, Вадик, — сказала Маша. — У меня идея, как ты к ней отнесешься… У Александра Ивановича есть кухонный гарнитур?
— Конечно.
— Так вот… Наша Варвара Васильевна, ты с ней знаком, это старший экономист… она получила наконец однокомнатную, разъезжается с дочерью. Мебели у нее ни-ни, вот бы подарить ей гарнитур! На новоселье она, кстати, нас приглашает…
— Подарим, — согласился Мирошников и пошутил: — Но не все раздадим, кое-что и продадим, тугрики, они нелишние!
— Да, мой милый, да!
— Но и Стасу Петрухину, у него также предстоит новоселье, придется кое-что уступить. Безвозмездно, разумеется… Презент!
— Не обидим твоего приятеля, не обидим.
А Мирошников вдруг припомнил: в последний раз они виделись с отцом в декабре — самые короткие в году дни и холодные длинные ночи. Глухозимье. Полдень, а в комнате словно сумерки. Отец тогда, потирая руки, сказал: «Декабрь называют — стужайло или хмурень. Вкусно называют?» — «Вкусно, папа», — ответил Вадим, не предполагая, что больше не увидит отца живым.
9
Нотариальная контора размещалась в полуподвальном помещении, перегороженном на клетушки. В такой клетушке с желтушным светом электрической лампочки под низким потолком Мирошниковых принял нотариус — сухощавая, очкастенькая, постная женщина, типичный «синий чулок». И вообще то, что это женщина, не понравилось Вадиму Александровичу: дело серьезное, а тут, извините, баба. Да еще и довольно молодая, видать, без опыта.
Выслушав Мирошникова и пока не взглянув на его документы, женщина заученно заговорила:
— Родственные отношения можно подтвердить документами: свидетельством о рождении, где указаны родители, свидетельством о регистрации брака, если была изменена фамилия. Доказательствами могут также служить выписки из личных дел умершего и наследников. При отсутствии документов факт родственных отношений может быть установлен судом. В таком случае решение суда будет документом, подтверждающим родственные отношения…
Мирошников порывался перебить ее и сказать, что все это разжевывание ни к чему, коль у него есть метрики, то есть свидетельство о рождении. А потом подумал: «Эта сухопарая особа кое-что повторяет из того, что вчера говорила Маша. Уж не побывала ли женушка предварительно в какой-нибудь нотариальной конторе либо в юридической консультации? Она человек практичный. И действует по испытанному принципу: доверяй, но проверяй».
Должностная дама заученно твердила свои инструкции, строго поверх очков окидывая их косвенным, скользящим взглядом: ей было скучно. Скучно было и Мирошникову, и он еле-еле дождался, когда нотариус стала знакомиться с его документами — поплевывая на пальцы, дама листала странички, прочитывала, вновь возвращалась, читала, как будто хотела наизусть выучить завещание, метрику, паспорт Мирошникова. «И чего ты тянешь канитель, мымра?» — с тоской думал он, уставившись на чернильное пятно на ее зашарпанном, сиротском столе.
Но вдруг в клетушку пробился солнечный луч, слепящий, не по-зимнему греющий, и будто от него на лицо нотариуса легла улыбка, преобразившая постную, блеклую женщину. Мирошников даже захлопал глазами. А женщина, которую до этого именовал мымрой, доброжелательно посмотрела на них, щурясь от солнца: